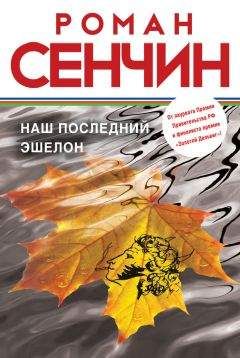На груди висит маленький автомат. Маленький блестящий пневматический автомат, стреляющий пластмассовыми шариками. Я такие видел у нас в «Детском мире». Неплохая игрушка.
– Вот это и есть мой царский жезл. У меня в руках он заговорит, он расскажет подобиям про всю их ничтожность. Я разнесу их на куски, если им не хочется быть людьми. Я войду куда-нибудь, где они жрут и радуются, расстегну вот так вот пальто и спокойно, прицельно, короткими очередями начну объяснять. Они поверят в меня, они всё поймут. Я понял, не улыбайся, я действительно понял и хочу донести до них свое слово. Я обязан сделать этот великий шаг – меня отметила правда. Я обязан пойти и рассказать.
Глава двенадцатая
Почему ты молчишь? Ну, почему ты всегда молчишь? Я больше не могу переносить молчание. Люди или молчат, или врут. Почему? Ну, скажи, почему так? Я не могу, я, честно, больше уже не могу… Теперь я часто смотрю в окно. Я живу на двенадцатом этаже и часто смотрю в окно. Когда-то я смотрела вдаль, а теперь мне интересно смотреть вниз. Там, под окном, стоянка для машин, они кажутся игрушечными, совсем маленькими, и мне хочется взять их в руку. Я чувствую, что смогу. Очень сильно, почти непреодолимо хочу потянуться и зачерпнуть. У меня щиплет пальцы от восторга и страха, когда я высовываюсь и смотрю. Долго-долго смотрю, задираю голову и смотрю вверх, на окна выше, на стену, а потом сразу вниз. Ах, как это страшно и как чудесно! И меня кто-то тянет, кто-то толкает туда. Честно. Что испытывает человек, когда летит? Какой, наверное, восторг, какое ужасное восхищение. Я готова, честно, я почти готова…
Ты молчишь. Ты будешь слушать все, что угодно, и ты будешь молчать. Вот я возьму сейчас этот нож и располосую руку, до кости, а ты будешь сидеть и молчать. Да?.. Сволочь! Ты не человек, ты ничего не видишь и не хочешь, не понимаешь. Твою пустоту я приняла за понимание, я думала: вот, он понимает. Ты в тысячу раз бесцветней всех их. Ты пустота, честно, ты просто пустое место, тебя просто нет, нет, нет!
(«Чем ты красишь эти ногти свои? Я вижу твои ногти и слышу слова, и мне становится очень смешно. Говори, делай что хочешь… А лучше, Наташ, давай я попробую запарить манаги. Мы выпьем манаги, и на три-четыре часа нам станет легко».)
Глава тринадцатая
…Во-от. Ну, и он меня к себе пригласил, короче. Ну, я, конечно! Ни фига себе – такой человек меня пригласил! Ну, водки, короче, взяли – и к нему. Я ему по дороге стихи читаю, он, короче, хвалит, головой мотает, смотрит так на меня. Глаза хорошие, вообще, добрые. Ну, интеллигент же, думаю, еврей. Великий, короче!
Приехали к нему, в общем, домой. В центре, на Бульварном кольце хата. Прикинь, да! Ну, вообще, я из говна какого-то, а он вот, бляха, классик живой, и – в гости, с водярой, короче, все дела. Вот, думаю, сейчас забухаем, посидим, я стихи почитаю, его послушаю, все классно, короче.
Ну и вот, короче, пришли. У него две жены. Одной лет тридцать так, а другой так за сорок. И эта, которая младшая, вообще, короче, – кончита. Я как ее увидел в кимоно с вышивкой на спине, с такими вот волосами, так вот собранными вот здесь, вообще охренел. Она как узкоглазая, но не совсем. Четкая такая, тонкая вроде, а задница, сука, такая, грудь вообще, все дела. Ну и старшая, хоть и видно, что так уже, а тоже, короче. И тихие такие, добрые. Сразу на стол собрали, пока он мне библиотеку показывал. У него вообще книг, короче! Я хотя и плюнул на эстетство все это, но, бляха, глаза разбежались. Во-от… Ну, сели потом, жены тоже сели, стали бухать. Классно. Ну, классно, короче! Потом жены, значит, ушли к себе куда-то, а мы сидим так, я ему стихи читаю, он кивает так, свое мнение говорит. Ему больше всех это понравилось. Из цикла «Катенька».
День сегодня хмурый,
Дождь идет с утра,
Нет на небе солнца,
Не слышно соловья.
На пруду нет уток,
Спрятались они,
Лишь одни лягушки
Качают камыши.
Я смотрю на небо
Из горницы своей,
Я прошу, чтоб солнце
Вернулось поскорей.
Побегу я к милой,
Упаду к ногам,
Буду с Катериной,
Ей любовь отдам.
Сказал, что в лучших традициях. Прикинь! Непосредственность, говорит, и душевность.
Ну, пьем, пьем, уже хорошо так. Ночь совсем. Он предложил у него остаться. Я, конечно, согласен, тем более и метро не ходит уже. И вообще, мне идти особенно некуда. Он и ванну предложил принять, я тоже, ясен пень, с радостью. Вообще, сижу вообще: я с детства, можно сказать, на его стихах вырос, наизусть знаю, бляха, а тут он живой, я у него на хате, в ванну щас завалюсь. Вообще, короче!
Ну, приготовил он ванну, воды напустил, пену взболтал, пригласил меня. Я, короче, зашел, все в кафеле, чисто так, а защелки нет на двери. Хрен с ним, думаю. Разделся, залез – охренеть! Я же почти две недели ехал, не мылся, а тут, блин, такие дела. Вообще, короче! Развалился так, лежу, захорошело. И тут он заходит. В футболке уже, в шортах, и такой ко мне: «Хорошо тебе, Саша?» Да, говорю, хорошо все, спасибо. Ну, думаю, зашел так, поинтересоваться, не нужно ли чего мне, ну, чисто из-за гостеприимства. Неудобно, конечно, слегка, но ничо. Думаю, щас уйдет. А он тут перед ванной так опустился и руку в воду – чик. И начал к моей ноге прикасаться и говорит: «Я полюбил тебя, мальчик. Ты словно юный Рембо, ты чист и свеж. Ты так прекрасен. Давай же сольемся в солнечных объятиях наслаждения». И ногу гладит так, и стих свой читает, который мне нравится у него больше всех, я ему сразу про это сказал.
Особая тема – сырая действительность
Вскрылась цветастым венком порошка,
Когорта бетонных, днем обрастающих
Распиской непрочной пустого мешка.
Ну, и так далее, ты, наверно, читал же. И глаза так блестят, вообще неестественно, бляха. И ему же за пятьдесят давно, а вдруг таким молодым сделался. Я вообще, изумился так, растерялся. И сижу. А он, короче, руку уже так мне между ног переместил и начинает член мне надрачивать. А сам все говорит, говорит стихами своими, и меня словно гипнозом в бо́шку. А потом я ему, короче, как в зубы перемочил и ушел. Оделся на лестнице… Женам спасибо, младшей особенно, – как ее вспомнил, сразу очнулся. Не хочу я быть как Рембо, бляха! Женщины есть же… Согласись? Ну и вообще как – если б он меня пердолить стал, так я не хочу, а если его надо было, так не смог бы – я его уважаю все-таки. Хоть и в прошлом, а я его как бы учителем своим считал.
Да ну их всех, пидоров гнойных! Вся эта интеллигенция, это же, блин, куча дегенератов одних. В деревню теперь поеду, к бабке, буду огород копать, с народом жить. Народом буду, короче. Хватит – наездился, начитался, сука, на все насмотрелся!..
Глава четырнадцатая
Вечерняя зорька. Мы с Лехой сидим на берегу протоки за дачами и рыбачим. Конец августа, но он еще не чувствуется, еще во всем живет пик лета. Про то, что через неделю снова в школу, вспоминать не хочется. Просто хорошо и спокойно, и кажется – так хорошо и спокойно будет всегда.
– Гляди, гляди, клюет! – сдавленно восклицает Леха, кивая на мой поплавок. – Тяни!
Поплавок, сделанный из винной пробки, мечется на воде, от него разбегаются частые круги. Это пескари так обычно клюют.
– Тяни же, ну!
Я рванул удилище, на крючке заблестела каплями, трепыхаясь, рыбка. Точно, пескарик.
– Кла-асс! – шепчет Леха, завистливо смотрит, как я снимаю добычу с крючка: ко мне сегодня удача пришла первому.
Рыбу я опустил в банку. Пескарь сразу метнулся на дно, забился усатым носом в стекло, пытаясь уплыть. Он довольно крупный, симпатичный, поджарый, как все пескари. Вот ельцы и окуни мне нравятся куда меньше, хоть и считаются более ценным уловом.
Я выбрал из консервной жестянки подходящего червя, насадил его на крючок, лишнюю часть отщипнул и бросил обратно. Закинул удочку.
Солнце прячется в тальниковый лесок на противоположном берегу протоки, на островке, за которым мчится широкий, беспокойный Енисей. Там ходят по камням мужики с торпедами, надеются набить свои холщовые рыбацкие сумки ленками.
Почти в самом центре острова, на высоком месте, которое не затопляет весеннее половодье, находится наш с Лехой шалаш-землянка. У нас есть маленький плотик, на нем мы переправляемся на остров. Мы бродим в густых зарослях тальника, штурмуем завалы отполированного водой, вытолкнутого на сушу давним наводнением топляка и представляем себя путешественниками или разведчиками.
– Заманали уже! – ругается Леха, прихлопывая очередного комара на своем затылке.
Клёв пошел неплохой, уже больше половины пятилитровой банки пескарей и ельчиков. Им нечем дышать, они теперь кружат у самой поверхности, почти вертикально, широко раскрывая рты, судорожно трепыхая жабрами, собирают кислород. Некоторые уснули, особенно быстро это происходит с ельцами; их безвольные тела толкают, они кружатся вместе с живыми, но равнодушно, в мертвом покое.
Вода в банке кажется кислой, снулые рыбы теряют аппетитный вид, они постепенно дубеют, светлеют, окутываются прозрачной слизью. Некоторое время глаза их ясные, они будто смотрят на меня и просят выпустить в речку, в свежую свободную воду. Они кружатся с еще живыми, но им теперь все равно, вверх ли головой кружиться или вниз, рты их перекошены, напряжены в последней попытке вдохнуть.