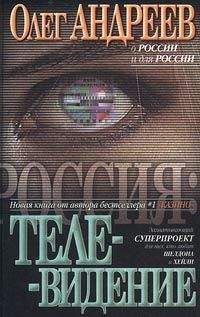Похороны и поминки справили тихо, безлюдно. В наследство из всего бабкиного добра взяла Галина Алексеевна пару пуховых платков (которые сама же бабке и посылала) и неполный набор столового серебра, еще дореволюционный. Хватились Любочкиных фотографий, но не нашли (растерзала их бабка в ярости, когда последнее письмо от Галины Алексеевны получила, и артрит не помешал). Зато отыскался на антресолях целый склад побелевшего от времени шоколада.
Шоколад отнесли на помойку, квартиру со всей остальной рухлядью перепоручили участковому и наутро уехали из Слюдянки в Иркутск, откуда вечером, в двадцать три ноль-ноль, отбывал пассажирский поезд до Красноярска.
Разумеется, Галина Алексеевна предпочла бы посмотреть мосфильмовскую картину в компании односельчан, в родном клубе – она бы тогда могла сидеть в первом ряду, обязательно в новой каракулевой шубе, в норковой шапке, что подарил на позапрошлый Новый год Петр Василич, и наслаждаться благоговейным шепотом в задних рядах, как только ее Любочка, прекрасная, несмотря на скромные одежды, появится на экране крупным планом. Галина Алексеевна даже не обернулась бы – вот еще! Зато потом, после фильма, она бы с достоинством английской королевы прошествовала к выходу, односельчане расступались бы и завидовали в голос. Но вот же чертова бабка, и тут подгадила! Картину в клубе первый раз показывали именно сегодня вечером, а Галине Алексеевне предстояло маяться на иркутском вокзале, в ожидании обратного поезда сидеть на тощих чемоданах в выстуженном сибирскими сквозняками зале ожидания.
Сходили в буфет и взяли по комплексному обеду. Галина Алексеевна была явно не в духе. Заставила Любочку доесть жидкий столовский борщ до последней картофелины, чего не делала, наверное, с тех пор, как Любочка пошла в школу, поскандалила с официанткой за резиновое мясо и черствый хлеб, раскраснелась, разнервничалась; тут же, неудачно глотнув, подавилась компотом, зашлась в кашле и даже на Петра Василича шумнула, когда он ей, облегчения ради, попытался меж лопаток кулаком постучать. Петр Василич за пятнадцать совместных лет изучил свою прекрасную половину на «отлично», а потому, выйдя из буфета как бы по малой нужде, отправился вовсе не в туалет, а в справочное бюро, где и выяснил у милой озябшей девушки, что фильм «Хозяин тайги» в Иркутске все еще идет – семнадцать тридцать, кинотеатр «Гигант», Карла Маркса, 15, добираться на первом трамвае.
Любочка ехала в трамвае впервые. За окнами уже смеркалось, зажигались фонари, яркие, словно елочные гирлянды; веселые искры – синие и оранжевые – бежали по снегу вслед за светящимся, гремящим во весь голос трамваем, кондукторша звонко зазывала безбилетников, и от этого на душе у Любочки было светло и радостно. Она горячо подышала на стекло, оттаяла себе глазок в ледяной корке и теперь с жадным любопытством рассматривала диво дивное – всамделишный большой город. Дома – огромные, трех-, а то и четырехэтажные – подмигивали ей вечерними огнями, в первых этажах светились богато убранные витрины магазинов и кафе, заснеженные деревья густо штриховали снег на тротуарах. Тени их были таинственны и странны, гром трамвая – весел, и Любочке казалось, что давно придуманная в мельчайших подробностях мраморная лестница волшебным образом возникнет прямо сейчас – у входа в кинотеатр «Гигант». Да и Галина Алексеевна немного повеселела.
Глава 6
Билеты, разумеется, взяли в первый ряд. Петр Василич и Любочка, хоть и пребывали в ожидании кульминации (т. е. массовки № 2), фильм смотрели все-таки внимательно и с удовольствием. Когда в первой массовочной сцене сельчане вперемежку с актерами полезли через борт грузовика, Любочка очень смеялась и толкала отчима в бок, пальцем тыкая в сторону мелькнувших и исчезнувших одноклассников – Вовки Цветкова и Лёньки Сидорова. Не беда, что они были к камере спиной – она бы их где хочешь по спинам узнала. Потом Любочка за Нюрку переживала, что приходится той за нелюбимого бригадира идти замуж. А еще было почему-то страх как интересно, кто же на самом-то деле сельпо обокрал, хотя она это еще во время съемок знала прекрасно. А вот Галине Алексеевне не терпелось. Ерзала и вертелась Галина Алексеевна на стуле, словно ее на лопате в печь пихали, и даже рукой в нетерпении перед экраном вращала – быстрее, мол, крутите свое кино, не задерживайте. Разок на нее из задних рядов зашикали даже.
Кажется, фильм длился целую вечность. Но вот настал долгожданный момент, когда глазам публики должна была во всей красе явиться Любочка. Милиционер (медленно, ах как медленно!) клеймил ушлого бригадира Рябого, потом (медленно, ну как же медленно!) велел сажать бандитов «на одну холку», потом (медленно, медленно, медленно, черт ее подери!) лошадь трогалась с места и шагала по большаку… а потом вдруг в кадр вплыла лодка, зазвучало: «Я вернусь домой на закате дня…», густо зазеленел невнятный сибирский пейзаж. Прошел по дороге одинокий Золотухин, прокатилась по лесу неторопливая телега. И вот уже милиционер спал, усталый, так и не испив молока, тянулся по Мане-реке бесконечный сплав (вид сверху). А потом, на фоне очередного пейзажа, из одной точки стала прорастать зловещая красно-рыжая надпись «КОНЕЦ ФИЛЬМА». И всё! И (Как же так!? Не может этого быть!) никакой Любочки…
«Невозможно! Это ошибка, ошибка!» – вопияло все в Галине Алексеевне, оцепеневшей на стуле. Вот и квитанция об оплате одного съемочного дня, три пятьдесят, с подписью и печатью, который месяц хранилась в паспорте, за обложкой. Невозможно, невозможно! Меж тем никакой ошибки не было. По первоначальной режиссерской задумке, действительно, должны были провезти бандитов по селу, и сельчане, действительно, должны были стоять на обочине и молча смотреть с укоризною – крупным планом. Так бы все и было, наверное, если б не Любочка. Бьющее в глаза сходство с Нюркой-Пырьевой безнадежно сгубило сцену. Пришлось вырезать все, остался лишь жалкий начальный обрубок.
Галина Алексеевна была, что называется, убита наповал. Она не помнила, как вышла из кинотеатра и как садилась в обратный трамвай. «Как же так! – кричала Галина Алексеевна мысленно. – Как же так!?» Потом стала понемногу приходить в себя.
Она отыскала себя на заднем сиденье трамвая, бегущего от «Гиганта» прочь, в сторону вокзала, рядом обнаружила всхлипывающую Любочку и растерянного Петра Василича, который метался и не знал, бедненький, за кем ему ухаживать, за женой или за падчерицей, а впереди – горожан, обыкновенных трамвайных пассажиров, которые преспокойно ехали по своим делам, не оборачиваясь, потому что не знали, что прямо за ними на заднем сиденье скромно едет будущая мировая знаменитость, самая великая артистка на свете – Любочка.
Мало-помалу Галина Алексеевна вновь обрела способность выстраивать в голове логические цепочки – сначала совсем простенькие, потом все более сложные. Ее перегруженная, воспаленная мысль двигалась от постепенного понимания: «все кончено» – к той критической отметке, за которой рождалось ощущение катастрофы; Галина Алексеевна уже не удивлялась, отчего всхлипывает Любочка, и знала, почему пассажиры иркутского трамвая № 1 не оглядываются на нее, такую ослепительную. И не оглянутся, уже никогда не оглянутся. Ни-ког-да. А следом пришло самое страшное понимание – Слюдянка. Бабка. Городская квартира. Бабка мертва, ключи от городской квартиры в Слюдянке участковый милиционер спрятал в широкий карман шинели, и они (бултых) стремительно пошли на дно… Проклинаю… Бабка написала тогда одно лишь слово: «Проклинаю!». И Любочки не было. Она ведь должна, должна была быть, но ее не было. Потому что бабка написала «проклинаю», прокляла, не пожалела единственную правнучку и ее, Галину Алексеевну, потому что… О Господи! Она ведь сама, сама во всем виновата, зачем она все ей высказала тогда, зачем писала, зачем ругала проклятую бабку, зачем, зачем рассказала старой ведьме про кино?! И вот теперь Любочки не было, не было, не было в кадре! Какая же она, Галина Алексеевна, все-таки дура! Это старая ведьма всё подстроила, всё! Жизнь теперь сломана – Любочкина молодая жизнь сломана из-за одного неосторожного слова! Как же это могло случиться с ними – с ней, с Галиной Алексеевной, всегда такой рассудительной и осторожной, с ней, которая Любочкиного будущего ради готова была ползти на коленях куда и за кем угодно, лишь бы девочка была счастлива и богата?! Нет, это совершенно невозможно. Невозможно, невозможно!
Тут Галина Алексеевна почувствовала резкую боль в груди, посерела лицом, и без того бледным, стала медленно сползать с сиденья к ногам мужа и потеряла сознание. Она уже не слышала ни переполоха среди пассажиров, ни перепуганного визга кондукторши, совсем еще девчонки, ни истошного вопля Петра Василича: «Кто-нибудь! Помогите же! Помогите!», ни воя «скорой помощи».
В себя Галина Алексеевна пришла только поздно вечером, после некоторого количества капельниц и уколов. Билеты на Красноярск к тому времени благополучно пропали, отправлена была с главпочтамта телеграмма директору леспромхоза Михалычу – с сообщением о непредвиденной задержке и с просьбой прислать до востребования денег, были уже выбиты (с огромным трудом) два места в гостинице «Горняк» для командировочных, куплены были (с трудом титаническим) необходимые лекарства. Пока Петр Василич все устраивал, Любочка тихонечко всхлипывала в уголке гулкого голого больничного коридора, ей было холодно и страшно и ужасно хотелось к маме, а мама была и здесь, и не здесь, а где-то за белыми дверями, за одной из этих одинаковых белых дверей. Только Любочка не знала, за какой, и от этого становилось еще страшнее. Со страху ли, с устатку, но постепенно девочка заснула на шатком больничном стуле, и снился ей длинный, липкий, многосложный кошмар, из которого, проснувшись, помнила она только мерзлую разверстую могилу в Слюдянке, поверх которой гуляла колючая белая поземка, да мертвую бабку в гробу – поджатые губы и голова с кулачок.