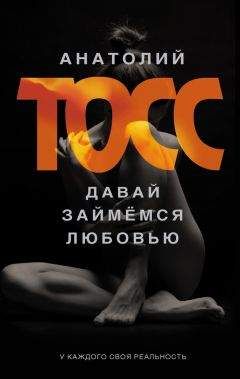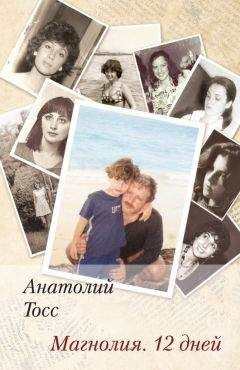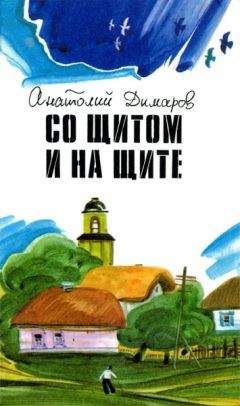Так и не сводя с меня своего текучего взгляда, она кивнула, и я стал старательно намазывать хлеб твердым застывшим маслом. Ведь еда – это радость, а радостью хочется делиться с ближним. В данном случае с ближней.
– Вы, я смотрю, эпикуреец, – заметила Мила. – То в душе полчаса плещетесь, то едой наслаждаетесь до полного самозабвения.
Стыдно признаваться, но о смысле слова «эпикуреец» пришлось догадываться по контексту – в свои девятнадцать я был, конечно, начитан, но не в полном, надлежащем объеме.
Впрочем, пока недостатки твоего образования не обнаружены, считай, что их нет. Этот принцип даже на экзаменах срабатывал, а тут до экзамена дело пока не дошло. И непонятно было, дойдет ли вообще когда-нибудь.
– Неужели я в душе полчаса провел? – искренне удивился я. Мила кивнула, но ни в ее взгляде, ни в улыбке обиды не было, только любопытство. – Мерзавец, – осудил себя я. – Но я компенсирую. Уже, надеюсь, компенсировал. – И я протянул ей тщательно составленный бутерброд. Она приняла его, белый в знойных вишневых узорах шедевр.
– Вы испачкались. – Она указала глазами. – Палец, указательный.
– Ага, спасибо, – поблагодарил я, слизывая вишневое пятнышко. – Указательный, – повторил я вслед за ней, – правда ведь, смешное название для пальца. – Я растопырил пятерню. – Он указывает, его и назвали указательным. А вот этот, большой. Хотя он даже и не самый большой, он самый толстый, но не самый большой. Кто их так обозвал?
– Наверняка народное творчество, – поделилась мыслью Мила, с удовольствием разрушая мое бутербродное произведение. – Чувствуется коллективная мудрость. Вот, например, средний палец. – Она тоже выставила свою ладошку, та была куда как меньше моей. – Еще одно меткое наблюдение. Тут ведь не поспоришь, он действительно средний.
Губы ее еще шире разошлись в улыбке, в голосе послышался смех. Она положила остатки бутерброда на тарелку, вязкая, темно-синяя капля тягуче, как бы нехотя сползла на белый фарфоровый глянец. Мне показалось, что абстракции в искусстве теперь даже прибавилось.
– А мизинец? Что означает мизинец? Вы знаете?
Она покачала головой.
– Наверное, у французов одолжили. Прямого функционального назначения у него ведь нет, вот у французов название и позаимствовали. – Она не сдержалась и прыснула.
– Действительно, что им делать, мизинцем? – согласился я. – Никакого практического применения.
– Могли бы назвать «крайним», – предложила Мила. – «Средний» же есть. Этот бы был «крайним»
– Или «маленьким». Раз есть «большой», то должен быть и «маленький». А то назвали непонятно как: «мизинец». Какой-то у нас нелогичный народ. Раз уже начал по величине и расположению, так и продолжал бы. А то сбился, засомневался, потерял ориентиры и сразу на французский перешел.
И вдруг ее прорвало, она аж затряслась от хохота, попыталась что-то сказать, но не смогла, лишь схватилась за последний, не исследованный еще нами палец. Тут до меня дошло, и я тоже зашелся. Попытался отпить чай, но дрожащий рот не держал жидкости, она брызгала, выливалась наружу. Совершенно не эстетично, но искренность и заразительность многое искупают.
Мы хохотали несколько минут, заражая смехом друг друга – такой вот коллективный хохот. Наконец я сумел выговорить по слогам, по буквам, да и то одно лишь слово:
– Не смогли…
Она закивала:
– Не придумали. Фантазии не хватило…
– …И знаний французского, – добавил я, и мы снова покатились, едва удерживаясь на шатких кухонных табуретках.
– И они не постеснялись сознаться… – сквозь слезы ухитрилась вымолвить Мила.
– Ну да, – закивал я, – назвали «безымянным». – Мы снова легли от смеха. Я в прямом смысле, грудью на стол. – Мол, мы старались, но ничего не получилось, не нашлось имени. Все перепробовали – и ничего не подошло.
– Как какой-нибудь холмик на географической карте. Нет, правда же стыдно, всего-то пять названий, и то схалтурили.
Я закивал.
– А что, может, объявить конкурс на лучшее название для безымянного пальца? А то неловко как-то. Да и перед пальцем неудобно. Все-таки единственная неназванная часть нашего тела. Для некоторых частей целая череда имен изобретена, а у этой ни одного.
Впрочем, последнюю мою ремарку Мила проигнорировала, либо умышленно, либо просто пропустила мимо ушей.
– А все оттого, что он бестолковый какой-то. – Она шевелила узкими, ухоженными пальчиками на своей ладошке, сгибая и выпрямляя, рассматривая каждый из них. – Он самый неловкий, ничего толком не умеет. Вот и не захотели с ним возиться, время на него терять.
– Так назвали бы тогда бесполезным или ущербным, что ли.
– Ой, нет, я придумала, подожди, подожди… – вот так в возбужденном творческом запале Мила перешла на естественное «ты». – Его знаешь, как надо назвать? Его надо назвать «следующий за «факом» палец». – И она снова покатилась со смеху, а я вслед за ней. Потому что в отличие от слова «эпикуреец» слово «фак» я все же знал.
Мы еще похулиганили, посмеялись, создали еще два бутербродных произведения, потом их слопали, каждый по одному. А потом настало время заканчивать приятное чаепитие. Не знаю, как насчет Милы, а вот мне точно. Куранты на Красной площади уже пробили полдень, а значит, несмотря на законные зимние каникулы, меня ждали дела.
– Слушай, – обратился я к девушке, которая недавно перешла со мной на «ты», – а ты куда едешь сейчас?
Похоже, вопрос застал ее врасплох, глаза сразу сузились и из озер превратились в заводи. Но на прямой вопрос надо было давать прямой ответ:
– А куда тебе надо?
– Да мне бы куда-нибудь в центр. А то пока здесь до метро доберешься… Эти трамваи зимой, похоже, впадают в спячку.
– Ну да, я понимаю. К тому же лес рядом, берлоги. Куда в центр?
– На Маяковку. Или куда-нибудь рядом. Все равно, безразлично. – Я пожал плечами.
– Поехали тогда. – Она вздохнула. Я вслед за ней. Конечно, лучше бы сидеть с приятной девушкой на кухне, кушать варенье. Сутки бы сидел, другие, третьи. До полной бестелесной бесконечности сидел бы. Но ведь говорю – дела.
Лыжи, как ни странно, спереть не успели, день-то еще ранний, будний, народу почти никого, вот и повезло. Я, конечно, поздравил Милу с такой удачей.
– Они тебе еще послужат, – подбодрил я девушку, которая привычно уселась на водительское сиденье.
– Лучше бы подумали, как палец назвать, чем таскать то, что им не принадлежит.
– Не умеют, – заметил я.
Мила кивнула. Я же говорю, мы с ней во многом соглашались. А значит, сходились все ближе, все теснее.
Медленно проехали между домами, плохо утрамбованный, рыхлый снег скрипел под резиновыми шинами, будто силился нас задержать. Но безуспешно, мы все же выкатили на самое главное Открытое шоссе. Мила вела автомобиль уверенно, без суетливости, движения выверены, на уровне рефлекса. Значит, водит давно и часто, сделал вывод я.
– Хорошо рулишь, – похвалил я. – Уверенно.
– Главное, чтобы пассажир чувствовал себя в безопасности.
Она оторвалась от дороги, сняла очки, бросила на меня быстрый скользкий, в смысле, ускользающий взгляд. Нет, под ее пристрельным взглядом я никак не чувствовал себя в безопасности. Хотелось съежиться и вжаться поглубже в сиденье. Но я сдержался, не сжался, согласился:
– Так пассажир ведь доверился. Причем полностью.
– У меня подруга есть, – резко сменила тему Мила. – Ей папаша машину купил, и она решила разобраться, что это за рычажки отовсюду торчат и вообще отчего колеса крутятся. Попросила, чтобы я ей помогла, что-то типа вводной лекции прочитала. Короче, села она за руль в первый раз, потрогала его, потом переключатель скоростей, он ей сразу понравился. Потом начала нащупывать ногами педали. Я ей объясняю: «Правая – это газ. Чтобы машина ехала. Средняя – тормоз, чтобы машина останавливалась. А левая, говорю, сцеплением называется, но это сложно, это тебе сейчас ни к чему». – «Надо же, – отвечает мне подруга, – на кой они три педали сделали. Чтобы такую тачку водить, три ноги надо иметь. Нет уж, пусть лучше меня мужики возят». И вылезла из машины. Так больше никогда за руль и не садилась.
Мила снова скосила глаза, проверяя, искренне ли я смеюсь. Убедилась, что искренне.
А я смеялся и думал, что правильно сделал тогда, на кухне, когда склонялся над ней в одном едва прикрывающем полотенце. Правильно, что не вошел в контакт. Верно проинтуичил. Ведь только теперь я понял – что-то в ней, женственной, даже обворожительной, все же присутствовало мужское, слишком логичное, слишком ироничное, отстраненное, будто она все время со стороны за всем и всеми наблюдает и делает трезвые выводы. Чтобы потом все правильно рассчитать. Весьма, надо сказать, мужская черта.
Вот и историю про автомобильную свою подругу она рассказала так, как рассказал бы мужик. И посмеялась над женской природной своеобразностью, как мужик бы посмеялся. И за мной она точно так же наблюдает, и оценивает, и делает выводы. А когда придет время, если оно придет, и меня точно так же просчитает.