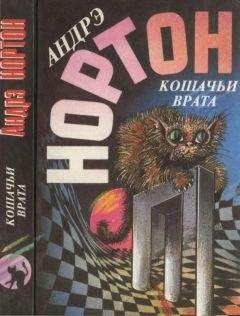– Вот именно! – подхватила я, для пущей невнятности засовывая в рот сосиску. – Я уже и не знаю, Катюнь. Такая обсдача, такая обсдача. Метро это чертово еще куда ни шло. А вот автобусы – это вообще гробы на колесах. Ну, ты знаешь, ты часто ездишь, не мне тебе рассказывать. Но я-то вообще почти не езжу, ты же знаешь, я не умею. С этой толпой – там же уметь надо, в ногу. В смысле – ходить в ногу. Там если в ногу не попадешь, то поди пройди. Такая обсдача, такая обсдача…
Я прикрыла дверь в кухню, чтобы мама не слышала моих всхлипываний. Катька потрясенно молчала на другом конце провода.
– Кать? – осторожно позвала я. – Ты тут?
– Я тут, – тихо сказала она. – Что случилось, Санечка? Я ведь тебя знаю, как облупленную. Ты мне сейчас зубы заговариваешь, потому что что-то такое случилось, это точно.
«Черт! – подумала я. – Похоже, чуток пережала. Сама себя перехитрила». Я поскорее прожевала и проглотила сосиску.
– Да нет, Катюня, сейчас уже все в порядке. Почти. Но ты должна мне обещать, что больше никогда – слышишь? – никогда не заставишь меня переться в свое Дачное.
– Лигово.
– …в свое Лигово. Я так намучилась, ты бы знала.
Мы помолчали.
– Слушай, Саня, – с каким-то смиренным отчаянием проговорила Катька. – Санечка моя дорогая, подружечка моя стоеросовая. Мы с тобой уже десять минут висим на телефоне, а я еще ничего не поняла. Ты можешь толком объяснить, что случилось? Поэтапно. Только, умоляю, без всех этих обсдач, штыков и пиков. Вот ты вышла из дому… и?.. ну, продолжай…
Теперь по плану следовало заплакать и повиниться. Я снова всхлипнула, на сей раз прерывисто, с влагой.
– Катюня, я его потеряла… ы-ы-ы… можешь себе представить? Потеряла, забыла, прошляпила… ы-ы-ы…
– Потеряла? – ошеломленно переспросила она. – Кого? Лоську?
– При чем тут Лоська? – удивилась я сквозь послушно подступившие слезы. – Типун тебе на язык! Ну при чем тут Лоська? Я потеряла тубус! Тубус с нашей курсовой!
Катька помолчала. Я еще раз всхлипнула.
– Так, – сказала она наконец. – Так. Ты потеряла нашу курсовую. Курсовую, над которой мы работали несколько дней.
– И ночей… – напомнила я.
– И ночей, – согласилась Катька. – Уж лучше бы ты и в самом деле потеряла своего лопоухого хахаля. Как же ты ухитрилась?
– В автобусе… у тебя там такие автобусы, Катюня. Там вообще кто ездит? Нормальные люди или только партизаны и саперы… как их?.. – Кузькины и Кулики?
– Кирзачи.
– Ага, Кирзачи. Меня там сразу затерли так, что дыхание сперло. Я… что я могла? Я только и думала, как бы мне выжить. Потом, слышу, вроде моя остановка, то есть твоя остановка, то есть промежуточная, где пересадка. Вылезла. Там надо на другую остановку. Пошла. Вся мятая, как бумажка в урне. На остановке опять народ. Автобус подходит опять набитый. Не влезть. Потом опять не влезть. Потом опять не влезть. Потом…
– Ты давай про тубус, про тубус… – сказала Катька.
– Да не знаю я, где он, этот тубус! – выкрикнула я, окончательно переходя на рев. – Я уже когда на твоем углу вылезла, смотрю – нет! Нет его! Ы-ы-ы… А где он пропал, в каком автобусе, на какой пересадке, никто не знает. Кроме, разве что, неизвестного солдата! Ы-ы-ы…
– Да ладно, не реви ты так, – испуганно выдохнула Катька. – Черт с ним, с тубусом. Черт с ней, с курсовой. Новую нарисуем.
Но меня уже несло по кочкам истерики. Начав ее из чисто тактических соображений, я вдруг осознала, что совершенно не владею собой. Что не я управляю своим якобы наигранным отчаянием, а оно мною. И, конечно, дело тут было вовсе не в тубусе. Меня трясло, будто я сидела не у себя на кухне, а на том проклятом диванчике, вынесенном не то из ЖЭКа, не то из поликлиники. Я буквально вибрировала от ужаса, от ненависти, от обиды. Красненькая клеенка на столе растекалась в моих глазах лужей дымящейся крови, а перевернутая кастрюля на плите казалась лысиной круглолицего шутника. «Кр-р-р… – слышала я его влажный булькающий хрип. – Кр-р-р…»
Катька что-то кричала в трубку, но я не слышала ничего, кроме звука чавкающей грязи под окном, кроме оглушительного звонка – неприятного, сверлящего, с вывертом. Не знаю, что было бы со мной дальше, если бы не собака. Бима молнией, скорой помощью влетела в кухню, бросилась мне на грудь, лихорадочно заработала языком – по лицу, по рукам, по шее: «Очнись, подруга, я здесь, я с тобою, всё вылижу, от всего очищу, от всего спасу… вот так… вот так…»
– Спасибо, Бимуля, – бормотала я, продавливая слова вместе с дыханием сквозь перехваченное спазмом горло, постепенно справляясь с истерикой, заталкивая рыдания назад в сердце – или откуда они там лезут… – Спасибо, девочка, спасибо милая… Да отстань ты уже, сучка невозможная, все лицо измусолила, хоть снова под душ…
Бима послушно уселась рядом, сунула голову мне в колени, уставилась сочувственно. Я глубоко вздохнула и осмотрелась. Трубка лежала на столе, издавая короткие тревожные гудки. Как видно, в какой-то момент я прервала разговор, нажав на рычаг. Бедная Катька – должно быть, перепугана насмерть. А мама? Вот будет номер, если она что-то слышала… На цыпочках я добралась до маминой комнаты: слава Богу, спит. Помогла таблетка.
Я умылась и вернулась в кухню. Надо перезвонить Катьке, успокоить.
– Надо позвонить Катьке, – сказала я вслух, пробуя голос на твердость.
Вроде в порядке, не прерывается, не замирает на полуслове, не взмывает в истерические выси. Я снова набрала номер.
– Катюня?
– Что с тобой, Санечка?
– Ты уж прости меня, дуру. Напугала тебя, да?
– Слушай, черт с ним, с курсовым, – твердо сказала Катька. – Не стоит он того. Это у тебя, наверно, время такое нервное. Нарисуем заново, не переживай.
– Конечно, Катюня. Черновики-то есть. Я до послезавтра все восстановлю, там не так уж и много.
– Зачем? – запротестовала она. – Вместе восстановим.
– Нет-нет, у тебя ведь еще зачеты… – теперь я уже чувствовала, что совсем успокоилась. – Я справлюсь, ерунда. Черчение полезно для нервов.
– Да что ты? – засмеялась Катька. – А меня вот наоборот нервирует… Слушай, давай я тебя отвлеку немножко. У нас тут во дворе такое… Я вот прямо сейчас в окно смотрю. Милиции нагнали видимо-невидимо. Одних ПМГ – раз, два… – целых шесть штук, и еще три «скорые помощи», представляешь? Оцепили в соседнем доме парадняк, никого не впускают, не выпускают. Народ стоит, смотрит. Прямо кино какое-то.
Пол поплыл у меня под ногами.
– А что там, неизвестно?
– Говорят, зарезали пятерых.
– Пятерых?
– Ага. Говорят, серийный убийца. В окно влез и всех порешил, топором. Представляешь? Там первый этаж, как у меня. Не знаю, как я теперь спать буду. Хотя нас-то в квартире семеро – пока он до меня со своим топором доберется, уже утро настанет. Ха-ха… Алло, Санька, ты куда пропала?
– Я здесь, Катюня, – вяло ответила я. – Ты меня прости, мне тут надо…
– Иди, иди, – заторопилась Катька. – Главное, отдохни и успокойся. Как-нибудь переживем. А лучше всего ложись спать. Утро вечера мудренее. Я вон вчера за задержку переживала, а сегодня – бац! – раскололась. Все чистенько и никаких щенков. Не то что твоя Бимуля. Ну, что ты молчишь? Могла бы и поздравить подругу.
– Поздравляю…
– Поздравляю… – передразнила она. – Ох, Санька, Санька… Ладно, иди спать. Завтра позвоню. Пока.
– Пока.
Я положила трубку. У ног шевельнулась Бимка, встала, с хрустом потянулась и о-о-чень про-о-отяжно-о-о зевнула. Это означало: «Алло, сколько можно ждать? Голова-то, небось, уже высохла…»
– Погоди, – сказала я. – Скоро восемь. Он вот-вот позвонит.
Бима с сомнением покачала головой.
– Ну почему ты вечно в нем сомневаешься, а, собака? Наверно, он уже звонил – просто у нас было все время занято. Ведь было занято, было?
Собаченция зевнула еще протяжней. Мои аргументы ее явно не убеждали. Бимуля вообще открыто недолюбливала Лоську, но я объясняла это элементарной ревностью.
– Вот что, – предложила я с наигранным энтузиазмом. – Давай договоримся так. Ждем до четверти девятого, идет? А потом отправляемся. Годится?
– Уу-у-у-у… – презрительно отвечала собака, из принципа глядя в сторону.
С Лоськой я познакомилась уже в институте. Он стал первым моим парнем. Первым и пока единственным. А может, даже и без «пока»: вообще единственным, на всю жизнь. Тут следует пояснить вот что: я из тех девушек, про которых говорят: «У нее хорошая улыбка»… или еще того хуже: «Зато у нее душа добрая». Не могу сказать, что я уродина какая-то, но большого количества кавалеров у меня никогда не было. И небольшого тоже. Мы с мамой очень похожи: обе маленькие, полные, с беспорядочными черными кудряшками и носом картошкой. Ни тебе узкой талии, ни тебе длинных ног, ни тебе копны овсяных волос, как у есенинских красавиц. «Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда…» Ни овсяных, ни пшеничных, ни соломенных. Такие, как я, поэтам не снятся, увы. Но, как говорит мама, в этой жизни вполне можно обойтись без кобелей – даже если они изображают из себя поэтов.