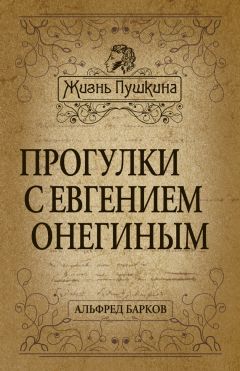Ох, уж этот образ и его воплощение! Каково это – мыслить не деталями, а концепциями! И не два раза в год, а каждый день! Теперь ее нынешние произведения отличались от тех, что она сочиняла, будучи простой модисткой, как четверостишие от поэмы. «Каков прогресс, каков размах!» – могла бы радоваться она, если бы не развившийся у нее через несколько лет синдром конвейера, отдающий запахом машинного масла прибыли, звяканьем невольничьих цепей призвания и ровным шелестом чужих дефиле, из которых надо было извлекать музыку модных сфер.
Их коллекции, приспособленные к широкому спросу, с удовольствием покупали столичные и иногородние заказчики, а пошитые из тех же комплектующих, что и головные модели, продавались в их фирменных магазинах, открытых ими в Москве и Питере. Через Клима им доставались заказы на корпоративную форменную одежду – модный род упаковки, которой скороспелые империи стремились прикрыть свое квасное исподнее.
Они обшивали капризных наследниц новых императоров, и некоторым из них приходилось мягко и доходчиво объяснять, что принцесса не потому принцесса, что у нее папа король, а потому что никогда не выражается матом. Им доверяли себя пустоглазые подруги видных бандитов и дочки низкородных выскочек, а также актрисы московских театров и жены важных чиновников, с мужьями которых Клим, вытащивший к этому времени бóльшую часть своих дел наружу, так хорошо теперь ладил.
«Неправ тот модельер, который считает, что его дело – обертка и что за начинку он не отвечает!» – внушала она своим молодым и язвительным помощницам, которые считали, что носи их клиентки на себе хоть картину Репина, тоньше от этого не станут – ни в прямом, ни в переносном смысле.
«Да, конечно, – соглашалась она, – как было бы хорошо и просто, если бы с новым платьем женщина надевала новую жизнь! Да, верно, хорошая фигура, что талант – не купишь и не пропьешь. Да, полно женщин, чью незатейливость не прикроешь никакими нарядами. Нет спору: у женщины в годах – низкая ликвидность, и стильная одежда – ее последний ресурс. Да, пожилая женщина, словно осень, рядится в прощальные одежды, а ее духИ пахнут все злее. Да, борьба за мужчину подобна борьбе с морщинами – можно отсрочить, но нельзя победить. Но в том-то и дело, что счастье не нуждается в наших услугах: мы нужны там, где драма!»
Словом, через год они вполне могли себя содержать.
Фабричные заботы были, пожалуй, поувесистее. Да, проблем с реализацией не возникало, а зарплата у швей была в два раза выше, чем средняя по швейной отрасли. Но сколько же головоломок приходилось разрешить, прежде чем пригласить коллектив к окошку кассы!
Ну, например: как серьезной фабрике быть успешной при засилье дешевого импорта? Кто их сегодняшний покупатель? Выпускать ли простую, дешевую, но модную одежду, либо модную, но дорогую? Как встать вровень с престижным импортом? Как снизить себестоимость при использовании дорогой качественной ткани? Как быть с автоматизацией производства – оставлять объемы на том же уровне и тогда сокращать персонал или наращивать объемы и выходить на новые рынки?
Весной двухтысячного к ним на фабрику пожаловали французы – представители крупной компании, торгующей одеждой по всему миру, которые, оказывается, давно и незаметно присматривались к их делам. К решительному шагу их подтолкнула новость о создании мадам Climenko собственного Дома мод. Им понравилась полномасштабная и суверенная организация дела – от дизайна до продаж. Похвалили они ассортимент и практичность их высоких коллекций, их точный вкус и крой. Терпимо отнеслись к основному оборудованию – дескать, для России вполне годится. Посоветовали снизить добротность продукции до 3 лет и решительнее избавляться от физически и морально устаревшего оборудования. «Главное – реализация!» – внушали они, и много еще чего говорили, пока не обнаружили в отношении фабрики целый план. Их, видите ли, привлекает относительно низкая себестоимость качественной одежды, которую при определенных условия можно было бы здесь шить. И вот если фабрика на это согласится, то будет вознаграждена долгосрочными и выгодными заказами.
Фабрика согласилась.
Три месяца специалисты обеих сторон пристраивали друг к другу угловато выступавшие части вроде бы взаимных интересов, пока подписанный договор не закруглил их и не скрепил в один. Французы выделили кредит, на который были закуплены и смонтированы две автоматические линии – пальтовая и костюмная. В Доме на Кузнецком мосту зазвучала французская речь, и бог моды со своими лекалами окончательно поселился там. В феврале две тысячи первого линии дали первую продукцию, малая часть которой осталась в России, а остальная разлетелась по миру, и это означало, что из искры ее московского ателье возгорелось, наконец, мировое пламя.
Золотой сентябрьской порой двухтысячного года она впервые побывала в Париже.
Ах, какой воздух в осеннем Париже, какие краски! А какие они элегантно небрежные, эти парижане и парижанки! И эта их поразительная способность при всей их видимой занятости не забывать о радостях жизни! Как они артистично и роскошно пируют и общаются, превращая естественную потребность в спектакль остроумия и галантности! Не то что она дура: ест – торопится, живет – колотится, а в башке одни лишь мысли о работе! О муже и сыне она в нарушение всех своих зароков вспоминала только в отпуске, когда днем на пляже, сидя в шезлонге и наводя радужно трепещущие ресницы на золотое крыльцо, где у самой кромки воды возился ее царь-царевич, король-королевич, спохватывалась: «С этой работой я совсем запустила и мужа, и ребенка… Надо непременно сбавить прыть… Невозможно тащить на себе и фабрику, и Дом…»
Кстати, в тот раз она спросила радушных хозяев, возможно ли ей хоть одним глазком взглянуть на живого Ив Сен-Лорана. «Почему бы нет? – отвечали ей. – В следующий раз мы это обязательно устроим!»
Удивительно ли, что занимаясь мужским делом, она незаметно обзавелась и мужскими качествами. Раздражительность, бесцеремонность, повышенный тон, несдержанные окрики, грозные выговоры и прочие симптомы диктаторства потеснили в ней доброту и отзывчивость. Ее когда-то ровное, приветливое настроение раскололось на плохое и хорошее. Порой ей казалось, что она обречена жить среди бестолковых людей, и тогда ей никого не хотелось видеть. Являясь домой в растревоженном, разобранном виде, она жаловалась мужу на заговор, в котором участвовал весь мир, и он, видя, что Аллушку опять довели, прятал ее у себя на груди. И пусть она потом спохватывалась, страдала, не стеснялась публично просить прощения, и никто, кажется, на нее не обижался, а напротив, все ее жалели и старались не давать повода, но тремоло треснутого настроения звучало все отчетливее и резче.
Как бы то ни было, но задекларировав доходы от впечатлений и заплатив налоги на прихоти, первые два года нового тысячелетия с глянцевым шелестом присоединились к ее биографии.
Весной две тысячи второго, в канун ее тридцатисемилетия они переехали в новую квартиру в центре Москвы.
«Большой начальнице – большая квартира на Большой Ордынке!» – объявил Клим о переезде.
День рождения праздновали вместе с новосельем, и когда шумные седовласые ровесники мужа, следуя испорченному на всю жизнь вкусу, вздымали вместо шипучих бокалов стопки абсолютного зелья и поздравляли молодую хозяйку с нежным возрастом, она вдруг остро ощутила, как незаметно и далеко зашла в своем жизненном порыве. То ли новая квартира пахнула на нее свежим запахом перемен, то ли звякнул где-то вдали колокольчик заблудившихся намерений, но она внезапно очнулась и сказала себе:
«Все, хватит, приехали! Пора сделать передышку, пора отдохнуть от мужских игр!»
Беременность – вот станция, на которой она сойдет, вот благая возможность вновь почувствовать себя женщиной!
Решив так, она со следующего же дня принялась настраивать свой гормональный оркестр на будущую симфонию материнства – перестала принимать таблетки и употреблять коньяк, с делового галопа перешла на шаг, рано возвращалась домой, где радостно вникала в детский мир сына, по-кошачьи ластилась к мужу, много спала и разборчиво питалась. Муж перемены приветствовал, она же, отвечая многозначительной улыбкой на его удивленное воодушевление, говорила: «Хочу больше времени проводить с вами!»
С тем же скрытым значением она в первых числах апреля отправилась в Питер, где присутствовала в Эрмитаже на открытии выставки работ Надежды Ломановой. Глядя на вечерние платья столетней выдержки, она с изумлением обнаружила что после незначительного хирургического вмешательства (кстати, удивительно ничтожного по сравнению с тем, что могло потребовать от одежды той эпохи Время – самый безжалостный на свете пластический хирург) – так вот, после небольшой редакции эти царские платья и сегодня могли бы стать украшением самого высокопоставленного собрания.