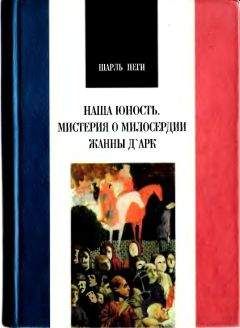Разные, ах, какие разные были у нас преподавательницы! Натурально, большинство из них были почтенными грымзами с разнообразнейшими закидонами, вносившими огромный вклад во всеобщую потеху профессионального изучения иностранных языков. Методику, например, вела у нас вполне уже бабушковатая тетенька Клавдия Дементьевна, сзади пионерка, а спереди пенсионерка, как ее обзывали, которая для удобства понимания себя студенческой массой и чтобы не перенапрягаться даром, общалась с народом на классическом волапюке: «Close the дверь, please», «Our seminar сегодня…» – так говорила она. На втором курсе куратором нашей группы, нечто вроде классной дамы, должна была стать Флора Сабировна Исхакова. В день начала занятий старосте Маринке Курочкиной поручили поприветствовать эту милую женщину. Староста успела сглотнуть два полных стакана шампанского за встречу после летних каникул и, поднявшись здравствовать, сказала: «Добрый день, Флора Исхаковна… Э-э, Сабира Флоровна… Ой, простите, пожалуйста, добрый день, Исхака Сабировна!» Отношения налаживали долго.
Когда тебе восемнадцать, двадцатипятилетняя преподавательница, хошь не хошь, кажется вполне взрослой женщиной со всеми почтительными последствиями. Но – прихожу утречком в бассейн на тренировку и вижу в воде до влекущих подробностей знакомую фигуру: ноги, руки, плечи, все остальное, только не скрытое, как обычно, одежей и преподавательскими интонациями разговора, а в легчайшем купальничке, – ба! да это же Надежда Григорьевна Юрышева, во всей своей молодой и почти везде загорелой красе. Надежда Григорьевна распространяет над бассейновой голубой жидкостью столь сильный аромат коньяка, что хлорка и не чувствуется, – отмокает училка со вчерашнего… А уж когда в агитпоходе Сашка Барышев по пьянке и в полной темноте завалился по ошибке к ней в койку! Он грозно вопросил: «Кто это тут, а?!» – и получил невинный от заспанности достойный ответ: «Это я, Надежда Григорьевна». Этому Александр не удивился, его интересовало другое: «А я кто тогда?» – решительно возопил он. После этого его стали звать Бу: Boo по-английски «страшила», был такой Бу Рэдли из «Убить пересмешника», насколько я помню, – это была книга для фронтального чтения на их втором курсе. А мы на втором читали почему-то «Портрет Дориана Грея», и я с этим портретом чуть не влип на экзамене по практике языка, но это – другая песня.
Изучение языков – дело и вообще непростое, как известно из эпохального высказывания моего деда (см. рассказ «Дедушкины загадки»). А тут еще с третьего курса начали мы учить второй язык, немецкий: кирхе одер кирше, какая разница, Анна унд Марта баден, чего ж им еще делать, таким розовым, вифель костет айне фляше вайн, а вот это всегда важно, и вообще – их хабе люнтгенэнтцундунгцугецоген, – ну перенес я воспаление легких, кого колышет? Учим мы немецкий уже месяца полтора как, тут на второй паре открывается дверь и появляется Мишка Орловский, летом зачем-то женившийся на школьной еще пассии и, ясен пень, задержавшийся к началу семестра. Глядя круглыми вдохновенно-опасливыми глазенками на нашу первую немку-молодайку Елену Григорьевну и теми же очами из-за толстых очков показывая той, что он моментально успел оценить ее стати, Мишка и говорит вспыхнувшей от ощутимого осознания своих плотненьких совершенств Леночке:
– Добрый день, я в этой группе учусь, Орловский. Разрешите?
– Herein, – застенчиво теребя пуговку на кофточке в районе крепких упаковок для младенческого питания, отвечает ему Лена, – setzen Sie sich, – проходи, мол, милашка, садись.
Орловский, волновавшийся отчасти за беспрепятственный после полуторамесячного прогула допуск к источнику знаний, который бил мощно искрящейся струей в Переведеновском переулке вблизи Спартаковской улицы, не понял хохдойча в Ленкином исполнении и, вкрадчиво уклоняя голову к плечу и чуть вперед, заявил искательно:
– Э-э, видите ли, я долго болел, такое дело, у меня справка…
– Setzen Sie sich, Михаил, – перестав стесняться и непедагогично показав свой интерес к долго и загадочно отсутствовавшему персонажу (знает, как зовут, ну!), вторично предложила ему русоволосистая педаг(б)огиня.
– Вы знаете, – продолжил сомневаться насчет последствий Орловский, – у меня вот и допуск из деканата есть, так что…
– Nehmen Sie Platz, bitte, – радушно поведя чуть пухлой с несколькими родинками на смугловатом предплечье рукой, снова предложила Елена Григорьевна, двадцати трех лет, незамужняя, член ВЛКСМ, хорошенькая.
– Нет, я правда болел, – сказал, начиная уже отчаиваться, Мишка.
– Садитесь, Орловский, – рыкнула, покраснев от непонятливости довольного рослого кудрявого и пухлогубого крепыша, Лена, – садитесь, – смиряя гневливый порыв и твердо беря инициативу крепкими пальчиками, сказала снова, – продолжим занятия.
Орловский сел, как всегда, рядом со мной, занятия продолжились, а Елена Григорьевна, взяв инициативу на себя, очень скоро убедилась, что и Мишка – не рохля какой. Группе от этого были, как выражался Фагот-Коровьев, «полнейшая выгода и очевидный профит», – в сессию немецкий сдали только так, не успев даже падежей выучить, правда двум Наташкам, которых валькиристая Еленка не одобряла ввиду их размашистой сексапильности, пришлось-таки за всю группу переспать с ассистентом кафедры немецкого языка Юркой Ферсманом, человеком хотя и странноватым, но очевидно талантливым во многом (нам с Орловским пришлось Ферсману проставиться). Финалом этой драмки, в ходе развития которой немалую роль сыграло творческое отношение ее участников к маце, одна из Наташек оказалась к середине 80-х в Новом Орлеане, но не с Ферсманом, – с ним потом какое-то время тесно соприкасалась другая Наташка, тесно – потому что комната у Ферсмана в коммуналке на Гоголевском бульваре была очень уж маленькая и без окна. Это все – тоже ламца-дрица, а местами и о-ца-ца даже, особенно когда Сережа Сергеев, потенциальный новый орлеанец, вернулся из армии и обнаружил, что Наталья-дева, которой предстояло стать ново-орлеанской, в отличие от девы просто Орлеанской д’Арк, привязана вовсе не веревками к столбу, вокруг которого жарко пылает хворост, а душевно привязана к небольшому столбику, вокруг которого горит огнем любви натуралий Ферсмана. Как Наполеон занимался любовью, не снимая сабли, так и Сергеев, не сняв шинели, пошел убивать Ферсмана, сжимая в кармане потной мужественной рукой бывалого солдата перочинный раскладной нож. В общем, все выжили, а Наташка с Сергеевым даже стали первыми из устных переводчиков привозимых в СССР порнофильмов, употребившими вместо бытовавших тогда нелепых выражений «минет наоборот» и «тебет» ласково-научное слово куннилинг, – все-таки люди с высшим филологическим образованием. Про слово феллацио они узнали потом, видимо уже в Луизиане.
На четвертом курсе бдительными стараниями заведующей кафедрой немецкого языка с предостерегающе-чарующей фамилией Мерзликина, неплохой в целом теткой, Леночкин приятно-полезный симбиоз с нашей охломонско-талантливой группой был разрушен, а так как природа вообще, и природа высшего учебного заведения в частности, не терпит пустоты, вечно полуподдатым и невыспатым нашим взорам в качестве зияющей, по Зиновьеву, высоты была явлена Алла Алексеевна.
Лет тридцати. Среднего роста чуть выше. Бледно-каштановые мягкие волосы – завитые на бигудях кудельки. Легкая перхоть. Лицо – не запомнишь, но не страхуильное, с краснеющим к середине дня от хронического насморка носиком, время от времени – явно гормонально-недостаточного характера прыщики. Цвета слоновой кости костюмчик джерси, обтягивающий довольно-таки объемные бедра, широкое и неокруглое уседнее место, невеликую плосковатую грудь. Красивые руки. Голос мягкий, диапазон – от покровительственного бархата до вполне бабьих взвизгов. Классика советско-педагогической старой девы.
На третьем курсе с немкой повезло Мишке и всем, на четвертом – не повезло всем и мне в особенности. Чем уж я так прельстил Аллу Алексеевну – известно только ее самоусладительным грезам и доктору Фрейду. Нет, что мог прельстить – это понятно, кокетничать нечего, мог, но коммунисты и коммунистки, как известно, должны ставить перед собой только реальные задачи, – со мной ей настолько очевидно не светило, что я, даже будучи членом ВЛКСМ, не смог бы должным образом поставить ни перед ней, ни в любой другой позиции, – даже если бы партия в ее лице сказала «надо – давай!», комсомол, в лице моем, «есть давай!» не смог бы произнести ни в каком варианте. Плюс гнусные советские духи, неотвратимо превращающие даже брызжущую разнообразными животворными соками молодайку в пожилую профсоюзную активистку. Жалко, в общем.
Впрочем, начиналось все как бы и не очень страшно – была немка вежлива, хотя и требовательна, разговаривала со всеми ровно, тактично даже, но со второй недели занятий выявилась странность: слушая кого-либо или наставляя по поводу лексических и грамматических несоответствий, глядела она на меня. Бесстыдно в упор. Я ерзал от неуютности, тоже упорно не поднимая взора выше Аллиной сомнительной талии, когда она стояла, а если сидела, выше не менее сомнительного декольте, всегда, впрочем, укрытого газовым шарфиком с блесточными полосочками. Девчонки подхихикивали. Еще через две недели томление немки стало предельно внятным и почти тактильно ощутимым, как сгущение воздуха июльского полдня перед юго-западной грозой, и боевые групповые подруги принялись на меня посматривать с возобновленным корыстным интересом – не проглядели ли мы чего невзначай?