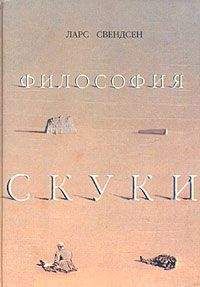Почему не больница?
С Грудинным всё произошло в точности так, как и предполагалась, у него в кабинете, заполнение бумаг – пожалуйста, подпись ещё сюда, простая формальность, требуется твоё согласие, – улыбка не сходит с лица, профессиональная, холодная, наконец, процедура окончена, листы исчезают в папке, папка в ящике стола, времени ещё за глаза, но говорить не о чем, тут уж ничего не поделаешь, остаётся разбавлять молчание междометьями, покашливая в кулак, и радоваться грохоту вдруг распахнувшегося на ветру окна, от которого вздрагиваешь…
О чём разговор? Ах, о жене.
– Она тебя проводит?
– Сам доберусь.
Его это, действительно, интересует? Или просто беседу поддержать? Мой ответ, во всяком случае, из второго разряда.
– И правильно, не маленький.
Смех железобетонный, как у робота.
Мой смех. Грудин улыбается одними губами.
– Ах, чуть не забыл, вот, направление.
Он уже поднялся, чтобы меня проводить, и ему пришлось прижимать лист к оконному стеклу, ставя на нём витиеватую подпись, занявшую, я видел на просвет, его большую часть. После чего он протягивает направление мне. Чернила ещё не высохли, и я на мгновенье задерживаю бумагу в его руке, чтобы не испачкаться. Боже, о чём я думаю! Мельком смотрю на число. Послезавтра! Остаётся день. Можно провести его в клубе, продвинув игру как можно дальше, можно даже удовлетворить любопытство, заглянув в финал. Но зачем? Обойдусь без компьютерного зала. Один день не спасёт, если я обречён остаться без игры, значит, я уже её лишён, перед смертью не надышишься. Перед смертью? К чёрту похоронные мысли! На улице солнечно, лёгкий ветер шевелит ветки елей, создавая на тротуаре игру света и тени. Глядя в лица прохожим, я заставляю себя широко улыбаться, насвистываю какой-то бравурный марш, а, спустившись в метро, вежливо раскланявшись, уступаю место старушке. Вспомнив вдруг грубоватую учтивость Грудина, громко смеюсь. На меня смотрят, как на идиота.
А что Устин?
Он угрюмо сосредоточен, забившись в угол вагона, косится на всех загнанным зверем. Жена встречает его с преувеличенной радостью, вешает на плечики плащ, который он в прихожей швыряет на стул:
– Будешь ужинать?
– Послезавтра, – на ходу бросает Устин. – Раньше, видимо, мест не было.
Сарказм на поверхности, но жена предпочитает его не замечать.
– Надеюсь, это ненадолго, – расставляет она тарелки с кусками варёной рыбы. – У тебя же ничего серьёзного, так, пристрастие…
Она старательно избегает слова «лудомания», и Устин ей признателен.
– В конце концов, полечишься, сколько надо, уверена, Грудин сделал всё возможное. Хотя, повторяю, у тебя пустяковое расстройство.
Это уже слишком даже для Устина!
– Тогда, может, обойдёмся без больницы?
Говорит Устин шёпотом, не поднимая глаз, уткнувшись в тарелку, ковыряет постную рыбу. Но едва сдерживается. «Да уж не олигофрения, не паранойя! – хочется закричать ему, со звяканьем отшвырнув вилку. – Тихое помешательство, не то, что у всех вас!»
Почувствовав угрозу, жена замирает.
Устина это раздражает ещё больше.
«Знаю я ваши шашни, хотите упечь меня, хотите развязать себе руки! – мысленно упрекает Устин, представляя, как воткнёт вилку в стол. – Убить вас обоих, убить?!» Жена побледнеет, съёжится. Это будет сладкое мгновенье! Но Устин молчит. Как всегда. Потом отодвинув тарелку, уходит к себе на диван.
Перед тем как заснуть Устин подумал, почему не завёл домашнее животное, например, кота. Да, кота, пожалуй, лучше всего, он неприхотлив, живёт сам по себе, его не надо выгуливать. Купил бы ещё слепого котёнка, белого, гладкошерстного ангорца с длинным хвостом, любопытного, запрыгивающего с пола на кровати, шкафы, подоконники, дерущего обои, когда точит когти, впрочем, для этого можно принести сухое поленце с корой, купать его необязательно, кошки – чистюли, остаётся приучить к лотку и, что сложнее, к кошачьему корму. Кастрировать его необязательно, он всё равно не увидит кошки, смутного объекта желания, а значит – врождённой потребности к спариванию, в отличие от потребности метить территорию, у котов нет, а у ангорцев к тому же снижен гормональный фон, – не будет орать весной, выглядывая с балкона, подстерегая воробьёв и голубей, видя мир, который будет внушать ужас, так что он не убежит. Ареал его обитания ограничивала бы квартира, коты привязчивы к месту, это собаки привыкают к хозяину, его было бы не выгнать даже на лестничную клетку, чтобы он тут же не заскулил под дверью, скребя резиновый половик. С ним не хлопотно, единственное неудобство – вечная линька, белая шерсть, серебрящая ковёр, но с этим можно сжиться. К тому же домашние коты спят по восемнадцать часов. Дворовые живут года три-четыре, а он мог бы протянуть все тринадцать, так что его судьбе по кошачьим меркам можно было бы позавидовать.
Что он увидит: мужчину и женщину, которые делят с ним его логово, их гостей, порывающихся его погладить, так что приходится прятаться на шкафу, бьющихся о стекло мотыльков, которых прижимает лапой, потом отпускает – это целое событие, – книги, назначение которых в том, чтобы драть о них когти, пока не видит хозяин, зеркало, в котором не узнает себя, тускло светящийся по вечерам монитор, у которого, свернувшись клубком, можно лежать часами, корзину, ту же самую, в которой его когда-то принесли в дом.
Чего он не увидит: мира.
За жизнь у него было бы два путешествия, не считая, того, когда его купили, оба, в багажной сумке, застёгнутой на «молнию», погружавшей в слепящую тьму: первое – в чужой дом, в гости, куда мы с женой уехали с ночёвкой, боясь оставить его одного, второе – в ветеринарную лечебницу, он будет уже старый, дряхлый, будет отказываться от пищи, ему поставят неутешительный диагноз, мочекаменная болезнь, убийца всех котов, счёт пойдёт на дни, и его там же усыпят. С тех пор он останется лишь на фотографиях и в памяти двух людей, не обращавших на него особого внимания…
Засыпая, Устин решил, что хорошо сделал, не заведя кота, тот бы слишком напоминал ему своего хозяина.
Может, рыб или черепаху?
На другой день Устин всё же не выдерживает. Он долго валяется в постели, обнимая смятую подушку, завтракает, привычно односложно отвечая жене, а перед глазами у него стоит клуб. Набравшись храбрости, он присмотрел ближайший, в последний раз можно всё, желание приговорённого свято. Когда он собирается в прихожей, его лицо не покидает смущённая улыбка, и жена понимающе смотрит ему вслед. Всё же он боролся. Ходил кругами около клуба, как кот около кринки со сметаной, потом, махнув рукой, решительно толкнул дверь, оказавшись в полутёмном вестибюле. На улице было солнечно, на мгновенье Устин сощурился, привыкая к сумраку, потом направился к кассе.
– На сколько?
Кассир понял глаза.
– На сутки.
Кассир в фуражке, приподняв её за козырек двумя пальцами, поскрёб мизинцем лысину, потом снова опустил.
Устин протянул деньги.
– На все.
Кассир молча выписал чек.
Зал был пуст, и Устин пожалел, что заказал отдельный кабинет. Устину он застал такой же, какой оставил, бойкой сухонькой старушкой, живущей ради дочери, Мелания была по-прежнему озабочена поисками жениха, а Обушинский сдал. Он уже не мог нянчиться с внучкой, у него прогрессировал Альцгеймер, правда, он ещё не забывал, где искать тапочки и как застёгивать пуговицы, но уже, как ребёнок, радовался победам своей футбольной команды, каждый раз болея за новую. Больше его ничего не интересовало. Уложив внучку, Устина долго шушукалась с дочерью на кухне, решая его судьбу. В это время Обушинский уже спал сном праведника, и это его спасало. Подойдя к нему, женщины смотрели на ставшее к старости детским лицо, морщинистое, как печёное яблоко, на раскрытый во сне рот, тонкие, бледные губы, на похудевшие руки, беспечно раскинутые поверх одеяла, и не могли решиться. Они снова и снова откладывали. Что их удерживало? Страсть давно улетучилась, любовь прошла, привычка отступила, но осталось, вязкое, как болото, прошлое. Обушинский об этом не знал. Нацепив очки, он смотрел футбол, ел тут же, в приставленном близко к телевизору кресле, так что в ямках на ковре, продавленных ножками, скапливались хлебные крошки, радостно вскрикивал, когда забивали гол – всегда в ворота противника, – и не видел тени нависавшего над ним приюта для престарелых. Вскоре он стал забывать, как выключается телевизор, и засыпал в кресле, досмотрев программы до конца. И во сне тоже смотрел в будущее, которого не видел. Однажды, приняв внучку за болельщицу чужой команды, он нахмурился и, показав пальцем на дверь, сказал: «Тебе с матерью надо перейти в другой сектор, напротив, где сидят ваши». На другой день он переехал из своего кресла в похожее, которое было в сумасшедшем доме, и не почувствовал разницы…
– Надо доплатить, – вырос в дверях кассир в фуражке. – Время вышло.
– С какой стати? – силится противиться Устин, отрываясь от монитора, и тут просыпается.