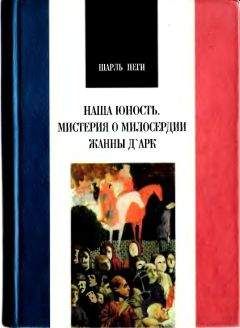Часть приняла нас технично, как, бывало, принимал мяч в штрафной Герд Мюллер, и точным пасом переправила в учебку, где били баклуши, бутылки и друг друга штук двадцать сержантов, страдающих отсутствием свежепризванного материала. Два десятка девятнадцатилетних пэтэушников из Курска и Тамбова на троих двадцатидвухлетних московских студентов – это вроде поездки русских князей в Золотую Орду, где на них клали доски, садились рядком и пировали ладком, услаждая хана славословиями, возлияниями и воскурениями. Первая же во главе с сержантами утренняя пробежка внушила им, что они сядут, если мы помрем, а шансы были, и они отстали, отдрессировав нас за неделю только подавать команду «Смирно!», когда кто-то из них входил к нам в курилку. Еще месяц мы служили по хозяйству, а первым моим выполненным боевым заданием был тщательный отмыв скульптуры В. И. Ленина, без кепки и протянутой руки, но в порыве, от разносортного птичьего дерьма, которого на ней было больше, чем на морских береговых скалах. Площадь вымытых мною лично полов превысила площадь Большого Васюганского болота примерно вдвое.
С особой радостью мы изображали птицу-тройку, впряженные не в тарантас, а в батарейный чугунный радиатор, который для придания блеска замызганному линолеуму в казарменных залах оборачивали старым одеялом и таскали вдоль и поперек. Так спортсменов готовят к рекорду, который мы с Мишкой и поставили, получив приказ покрасить забытое большое окно, хоть умри, за полчаса до прихода комиссии. Краски нам было не жаль, окна – тоже, – покрасили, конечно, но, выскочив за минуту до прихода чинов в сортир, с оторопью поглядели друг другу на руки, целиком изгвазданные белилами. Вопрос «А как же —?» был решен с истинно солдатской смекалкой – из тетради для политзанятий вырвали листы, налепили на ладошки, ну и… Один из сержантов в схожей ситуации потом отмывал керосином не руки.
Кричание «Смирно!» при явлении гонителей утомило до перехода проблемы в юмористическую фазу. Среди трудового будня Майк с Игорем выбрали полчаса, чтобы со вкусом и без сержантов посидеть на корточках с ремнем на шее и газеткой в руках. Я их отследил и, когда процесс сидения приобрел необратимый характер, ворвался в очковую с криком «Встать, смирно!». Условный рефлекс сработал как положено – они вскочили, руки по швам, хорошо хоть каблуки сапог не сдвинули, иначе живым бы мне не уйти.
До октября следующего года служба была утомляющей тягомотной нудятиной – работа, наряды – через день на ремень, парково-хозяйственные дни и прочие субботники-воскресники по уборке территории, и мелкие ЧП. Бедолага Игорь, мало что оставивший невесту соломенной вдовой, пытаясь с выпученными глазами освоить подъем переворотом на турнике, прижал к перекладине растяжимую деталь организма и вместе с ней, прижатой, провернулся вперед. С оторванной уздечкой его сво-о-о-локли в госпиталь, откуда он вернулся через десять дней с зажившим предметом, отъевшейся рожей и расползающимися от вечного кайфа глазами – две молодайки-сестрички трижды в день лелеяли его рану, бережно накладывая мазь сначала шпателем, а затем подравнивая тонкими нежными пальцами.
Итак, октябрь 82-го года. Мы – дембеля. Ремень, воротничок, сапоги – как надо, альбомов только не делали. Бреду я себе как-то по аллейке, останавливает меня некий капитанец и интересуется, где это я был десятого, скажем, сентября, в десять, положим, часов утра. Я ему спокойно так отвечаю – не помню, мол, что вчера было, одинаковое все, а уж месяц-то назад – ха! Разошлись. А через неделю звонит этот деятель мне на смену и говорит: «А зайди-ка ты, милок, часам к четырем в штаб». Никакого безобразия тайного за мной не было – чего же волноваться? Пришел, зашел, снимай шинель – снял, садись – сел. А за капитановым столом дядька в штатском – знакомься, следователь местной прокуратуры – на тебе!
– А скажите, Андрей, вы точно не помните, где были вот тогда?
– Помнить – не помню, но я проверял по служебному графику – спал в казарме после ночной смены.
– А кто это может подтвердить?
– Откуда я знаю, а в чем дело-то?
– Расскажу я, в чем дело, чуть погодим только. Значит, алиби нет.
– Слушайте, в чем дело?
– Дело в том, что именно в это время в близлежащем городском районе была изнасилована с угрозой применения холодного оружия восьмиклассница.
– Ха! Ей-богу, не я. Во-первых, я раз в месяц хожу в увольнение домой, это раз, а во-вторых – люблю постарше, два. Не я. А почему вы меня-то вызвали, я и по Ломброзо не подхожу.
– Сейчас разберемся про Ломброзо. Знаешь, что такое фоторобот?
– А как же.
– Тогда смотри.
Следователь протянул мне карточку, и как я не упал в обморок, я не знаю до сих пор. Там был изображен я, в ефрейторской форме, с правильными петлицами, только форма очков отличалась. Мама! «И будет в тот день, – говорит Господь Бог, – произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди ясного дня» (Ам., 8:9).
– Ну что… Лицо мое, но никакой восьмиклассницы я…
– Ладно, ладно. Я-то тебе верю. Но, понимаешь, если в отсутствие алиби с этой картинкой я тебя выведу на опознание, а девка тебя опознает, точно, светит тебе восемь лет строгого режима, – ни один адвокат не отмажет. Иди, приноси завтра пару заявлений, что видели тебя в это время, лучше чтоб офицеры. Иди, иди.
На крыльце штаба, где я жалко трясущимися ледяными руками пытался застегнуть шинельные пуговицы, ко мне подошел мой по службе начальник и спросил:
– Чего тебя вызывали-то?
– Да вот, говорят, я месяц назад восьмиклассницу изнасиловал!
– Гы-гы-гы, ну, ты – здоровый парень, а! Как же ты ее заломал?
Я, как ни странно, даже не улыбнулся в ответ этой доброй шутке. «И будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее… и будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны» (Ис., 24:21–22).
Поколебавшись несколько и подразнив меня простецким стебом насчет любви к малолеткам и малодеткам, взводный лейтенант написал-таки бумагу, дающую мне алиби. Часа три я еще отпыхивался и курил в разных неположенных местах. Привычное гороховое пюре за ужином я есть не смог и встал в строй вечерней поверки в казарменном коридоре вместе с побуркивающим от голода пузом и донельзя сумрачной мордой. Ротный старшина старший прапорщик Блинов, по кличке Бешэн, любил долго беседовать только с начальством, а нам говорил лишь, что «сидящий без дела солдат – военный преступник» и что копать-носить-мыть следует намного быстрее, ни в коем случае не расстегивая при этом воротничка. Однако в этот раз после переклички он не скомандовал разойтись, а продолжал, невысокий и плотный, прохаживаться перед строем, очевидно, намереваясь что-то трындеть. Я все еще мысленно беседовал со следователем, адвокатом и потерпевшей и значения старшинским прохаживаниям не придал. А зря.
– Значит, так, – особо значительным голосом с предваряющим покашливанием в крепенький кулачок произнес старшина. – В нашем районе города совершено тяжкое преступление. Разыскивается опасный молодой преступник. Нам известны его особые приметы, поэтому получен приказ произвести осмотр всего личного состава на предмет обнаружения этих примет.
– Какие приметы, какие? – нарушив устав, загалдела рота.
– Приметы, товарищи, такие: татуировка на правой руке, но, может быть, и не татуировка, а рисунок, который можно смыть, чтобы сбить следствие с толку. И вторая, – старшина опять покашлял, – шрам на левой ягодице.
Земля в виде казарменного пола не ушла у меня из-под ног только по одной причине – тогда повалилась бы вся шеренга. Изо всех построенных только я знал, о чем идет речь, но это бы ладно, – плохо было то, что на моей личной левой ягодице шрам был, заработанный в самом далеком детстве от неудачного закачивания гамма глобулина. Как меня ни трясло, я сообразил, что, если к фотороботу добавится шрам, следователь утратит веру в мою непричастность к злодейству и посадит. Меня. В тюрьму-уу-у-у, «…и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе» (Ис., 25:10), – как есть буду попран, – я знал, как петушат насильников в тюрьмах. Осмотрев вытянутые вперед и вверх тыльной стороной ладони солдатской массы и не выявив татуировок, старшина Блинов поколебался секунд десять-пятнадцать и не смог, не смог! перебороть в себе естественное для нормального гетеросексуала отвращение к подробному рассматриванию нескольких десятков задов однопольцев-однополчан.
Назавтра я отнес сидевшему опять в штабе следователю бумагу-алиби и не удержался, спросил:
– А как же она шрам-то заметила, ежели он ее насиловал?
– Руками, руками, дружок, придерживала небось, – довольно проржал мужик. – Да ты не волнуйся, все разъяснилось.
– ??!!
Прокуратор (прости, Пилат!) рассказал, что пятнадцатилетняя негодница вполне добровольно впала с кем-то в грех, а когда осознала, что пора в абортарий, решила разжалобить мамку рассказом о насильнике. Меня она видела в автобусе и запомнила, стерва.