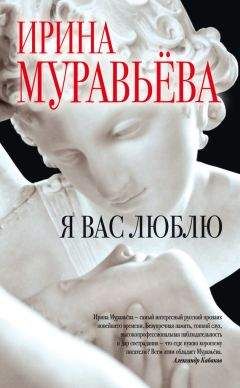– Нет, что про Москву брат вам пишет? – нетерпеливо спросил Форгерер.
– Тамара, ты не отвлекайся, дорогая, – с лёгкой иронией вставила Каралли, – у нас всё-таки законная супруга в Москве.
Николай Михайлович повёл на неё красным от лопнувших сосудов глазом.
– Да, Коленька, я понимаю! – воскликнула Тамара Карсавина. – Я сама как подумаю, каким опасностям Лёвушка подвергается, так меня в жар бросает! Я ему пишу: уезжай! А он всё медлит, не может решиться! То одно ему посулят, то другое, дергают, как куклу, за верёвочку! А ведь ещё месяц-другой, и поздно ведь будет! Сам написал мне, как Блюмкин ему проговорился, что верить нельзя никому: одни провокаторы! В ЧК знаете какой самый излюбленный метод? В камеру к заключённым подсаживают «наседку»!
И Вера Каралли, и Форгерер удивлённо посмотрели на неё.
– «Наседку»! – страстным шёпотом повторила Карсавина. – Это человек, который сидит в той же самой камере и заводит разговоры, чтобы как можно больше информации вытащить из заключённого. А потом, конечно, доносит куда нужно. А сколько там курьёзов, Господи! Страшно на улицу выйти: никогда не знаешь, вернёшься домой или нет! У брата был друг, врач, загнали его служить в Красную Армию – что делать? Жена, двое детей. Начал служить. Вдруг ночью машина и – сразу в ЧК. За что? За взятки, которые он якобы брал, освобождая от службы в Красной Армии. Сидит в одиночке. Потом случайно узнаёт, что по тому же самому делу ещё десять врачей арестовано, и все те арестованы, которые освобождение от службы получили. Однажды утром бросают ему в одиночку газету «Известия», а там список всех расстрелянных по этому делу! И в списке он видит свою собственную фамилию!
– Ошибка? – побледнела Каралли.
– Да никакая не ошибка! Всех их должны были ночью расстрелять, а в гараже, где расстреливают, места не было, там других расстреливали. А газета утром вышла со списком. Никто не подумал исправить.
– И что же? Его отпустили? – спросил Николай Михайлович.
– Кого там отпустят? Конечно, его расстреляли, но позже, на третьи сутки.
Форгерер подозвал официанта и расплатился. Официант, смазливый мальчик с усыпанным мелкими родинками лицом, ловко опустил деньги в карман, ловко и аккуратно пересчитал сдачу, поймал подброшенные Форгерером чаевые, быстро наклонил и снова вздёрнул прилизанную, чёрную, как у галчонка, голову.
– Вы воевали? – вдруг спросил его Форгерер. – Откуда вы здесь?
– На теплоходе «Корнилов» приплыли, – звонким голосом ответил мальчик. – С последним рейсом. Буря была, не приведи Господь! А воевать не воевал, не довелось, возрастом не вышел.
Николай Михайлович сгорбился и пошёл к выходу. Вера Каралли догнала его на улице.
– Коля! Вы, ей-богу, как ненормальный! Вы что, про меня забыли? Куда вы идёте?
– Домой, – буркнул Николай Михайлович.
Каралли мягко взяла его под руку.
– Я понимаю, что вы чувствуете, Коля, поверьте!
– Оставьте меня, – прошептал Николай Михайлович, – мне лучше побыть одному.
– Коля! Актёришка вы несчастный! Вам лучше побыть одному? А кто меня вчера умолял: «Ах, не оставляйте меня одного! Только не оставляйте меня одного!» Кто руки хотел на себя наложить?
Форгерер сморщился, будто лизнул лимон.
– Какие там руки! Пошлость какая! О Господи, Вера, неужели вы не слышите: ведь это всё фарс! Удрали мы с вами, вот и в ресторанах сидим, а там убивают.
Они остановились под фонарём, и видно было, как Вера Каралли сгорбилась и постарела на глазах.
– Мы спасаемся, Николай Михайлович, вот и всё.
– Крысы тоже спасаются, – резко ответил Форгерер.
Она помолчала, потом нежно и ласково попросила:
– Не убегайте от меня, я ведь вас не съем. Я вас даже от жены не уведу! Бросьте, Коля, ей-богу! Вам одиноко, мне страшно. Зачем нам сейчас расставаться?
Ночью Николай Михайлович проснулся и сел на кровати. Сквозь неплотно задёрнутые шторы пробивалась луна, и ранние робкие птицы уже пробовали свои вопрошающие голоса, отчего Николаю Михайловичу вдруг показалось, что он снова дома, в России, – быть может, на даче, а может, в усадьбе, – где тоже поют оробевшие птицы и пахнет травою… Но светлое это и тёплое чувство всплеснуло в душе и пропало: Форгерер вспомнил, что в России теперь революция, большевики, с которыми воюют белые, и кровь проливают и те, и другие, и будут её проливать ещё долго, но он, слава Богу, сейчас в безопасности… Тут Николай Михайлович отдёрнул одеяло и вскочил. Она ведь в России! А он в безопасности! В груди поднялась резкая разламывающая боль, и, схватившись обеими руками за сердце, он вышел в маленький коридор, потом на кухню, где медленно и тоскливо капала вода из плохо закрытого крана, сел на стул, согнулся и вдруг весь затрясся в рыданиях. Она была там, в этом аду, маленькая девочка, его жена! Он слизывал слёзы, поскольку давно отвык плакать, но они лились всё сильнее, затопляли лицо, широкие ключицы, голую, волосатую грудь, и руки его стали мокрыми. Он живо видел её перед собою: вот она стоит, в своём старом клетчатом платье, покусывая белыми зубами вздрагивающий лютик, и смотрит на него исподлобья. От солнца вспыхивают волосы, прилипшие к её потному лбу, приподнимаются брови, и страх в этих синих – нет, в этих лиловых – огромных глазах, детский страх! А вот она сидит с поджатыми ногами на диване и ест прямо из банки только что сваренное няней вишнёвое варенье: у неё ярко-румяные щёки, и растрёпанные свои волосы она отводит от лица рукою с зажатой в ней ложкой. Она отводит, забрасывает назад свои волосы, ловит его взгляд и вдруг так ужасно краснеет, до слез, до испарины! Он вспомнил венчанье, во время которого она отводила глаза, не смотрела на него, как будто ей было неловко, а когда он надел наконец обручальное кольцо на её длинный и худой, с обгрызенным заусенцем палец и священник сказал им: «Поцелуйте жену, и вы поцелуйте своего мужа», она вдруг широко раскрыла эти глаза, блеснула ими так, что он чуть не отшатнулся, и вдруг обеими руками обняла его за шею, притиснула его лицо к своему.
Николай Михайлович заметил, что сильно запахло черёмухой, и птицы в окне стали громче, живее, но он не заметил того, что давно громко разговаривает сам с собою и стонет, и в кухне уже не один, потому что прямо за его спиной застыла знаменитая на весь мир балерина Вера Каралли в длинной и прозрачной ночной сорочке, с распущенными, волнистыми, ярко-чёрными волосами, которые подчеркивают бледность её лица и недоумённо приоткрытого, без всякой помады, почти что бескровного рта. Наконец она переступила босыми ногами по холодному полу и дотронулась до его плеча. Николай Михайлович сильно вздрогнул.
– Коля, – прошептала Вера Каралли, – идите ложитесь. Вы рыдаете так, что мне страшно.
Форгерер обхватил её обеими руками и мокрым лицом прижался к её молочно-белому животу, отчётливо обрисовавшемуся под прозрачной сорочкой и напоминающему закрытый и узкий бутон тюльпана.
– Мне ехать пора, дорогая, – пробормотал он. – Пора собираться.
– Зачем вам так рано? – наклонившись и губами захватив прядь его поседевших волос, спросила Каралли. – Поспите хоть час.
– Нет, ехать в Россию, в Москву.
Каралли ахнула:
– В какую Москву? Из Москвы все бегут!
– Ну, что же мне делать… У них там никто не остался: пускай их бегут…
– Коля, да там заставы на каждом шагу! Вы же не будете, как князь Гвидон, то комаром, то мухой оборачиваться! Вас сцапают на границе и расстреляют, как немецкого шпиона. И вы ей совсем не поможете!
Николай Михайлович остановившимися глазами смотрел в одну точку и не возражал ни слова.
– Вы первый человек, Коля, который держит меня в объятиях и думает при этом о другой женщине! – Каралли закинула голову и крепче прижала к своему телу его ладони.
Он быстро опустил руки и пошёл обратно в спальню. Покусывая губы и слегка усмехаясь, Вера пошла за ним. Он сидел на кровати и застёгивал рубашку.
– Да подождите вы, месье Форгерер! – с досадой сказала она и села к нему на колени. – Вы, Коля, ей не изменяете! Разве вы меня любите? Нет. А я вас? И я вас. Мы просто товарищи, мы артисты, мы с вами друзья по несчастью. Ну, капелька, может, разврата закралась. Так это же капелька! Её в океане любви и не видно! Никто и разглядывать даже не станет! Мы с вами немножко погрелись, потёрлись слегка друг о дружку. Вы, кстати, знаете, что балерины – самые холодные женщины на свете? Я разве вам не говорила? Так я вам скажу. Нас почти с детских лет начинают поднимать мужчины. А как они нас поднимают? Вот так: между ног. – Она расставила ноги и показала, как поднимают балерин. – И там у нас самое твёрдое место! Железная кость! – Каралли засмеялась и поцеловала его нахмуренный лоб. – Я, Коля, вам вроде сестры. Ко мне ревновать – просто дикость.
– Замолчите, Вера, прошу вас, – сморщившись, сказал Форгерер.
Каралли встала с его колен и села рядом на постели.