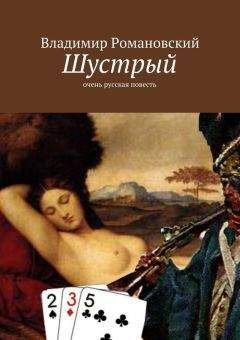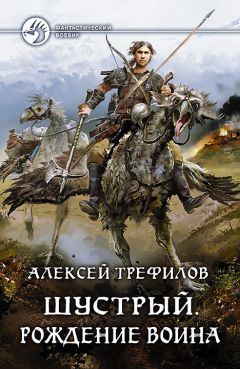– Добрый день, сударыня.
Она сердито что-то ответила на местном наречии. Шустрый сделал вид, что понимает, и коротко поклонился. Одет он был как местные – в длинную рубаху, повязанную на талии веревкой, коротковатые портки. Ноги босые по случаю теплой погоды – вперся без сапог в гостиную, негодяй. Сюртук надеть тоже поленился. Волосы отросли, и усы с бородой тоже. Рыжеватый блондин, крепкий, среднего роста.
Барыня еще немного поговорила сердито, а потом перешла на более резонный тон – будто к равному обращалась. Знакомо: когда вышестоящие обращаются к тебе, как к равному, это значит, что тебя хотят использовать в каких-то своих целях. Не обязательно корыстных, но без учета твоих собственных нужд. Шустрый нахмурился, потом чуть улыбнулся, и сказал вежливо:
– Не понимаю я, что вы мне говорите, сударыня.
Она опять рассердилась и даже чуть повысила голос.
Домой Шустрый вернулся в плохом настроении. Бывший гранеро, расширенный, с двумя пристройками, с дощатым полом и чердаком – выглядел неплохо по местным стандартам, и это несмотря на то, что перестраивал его Шустрый почти без посторонней помощи. Пацан иногда помогал. Староста выделил ему было каких-то неумех, которые часто отлынивали и старались все делать медленно и плохо, а часть инвентаря унести с собою с целью его продажи впоследствии. Соседям дом Шустрого нравился, некоторые даже восхищались – эффектно получилось, и добротно, кто бы мог подумать, что из какого-то гранеро сраного – и так далее. Дом вольного ремесленника.
Войдя в завидный свой дом, Шустрый перво-наперво спросил Полянку:
– Как Малышка?
Полянка ответила:
– Хорошо, сытая, спит.
Она научилась за время сожительства с Шустрым изъясняться на его наречии – нескладно, сбивчиво, путаясь в словах, но он ее понимал.
– А Пацан где?
– Ушел на море.
– Какое море?
– На реку.
– Ясно. Чего от меня хочет Барыня?
Полянка отвела глаза, а потом и вовсе повернулась к нему боком, глядя в одну точку. У нее были плохие манеры, как и у всех здесь, впрочем, кроме Барыни.
– Полянка, отвечай, чего хочет Барыня.
Полянка молчала. Редко, но с нею такое бывало – молчит и молчит. А дело-то небось важное! Потеряв терпение, Шустрый подошел к ней, схватил за волосы, и хлопнул по щеке. Полянка зажмурилась, подвыла, заревела, и сказала:
– Барыня хочет, чтобы ты женился.
– На ком? На ней?
Полянка не поняла и продолжала реветь.
– Женился – на ком? Чтобы я женился … а! на тебе, что ли? Женился на тебе?
Она все плакала, и это раздражало. Хотелось определенности. Он еще раз хлопнул ее по щеке, и тогда она наконец сказала:
– Да.
Он отпустил ее, потом погладил по голове, потом еще погладил.
– Ну так я, пожалуй, женюсь.
Полянка еще два раза всхлипнула, затихла, и посмотрела на него.
– Женюсь?
– Я женюсь. На тебе. Раз уж Барыня так этого хочет, – добавил он, но Полянка не уловила иронии и посмотрела на него странно. – Женюсь. А то действительно, живем с мы тобой во грехе, что же тут хорошего.
– Ты … – сказала Полянка и остановилась, ища нужное слово. И не нашла.
– Я. Что я?
– Тебе нужно идти в церковь.
– Сейчас еще не время, до вечерней службы далеко.
– Нет, не идти в церковь, а…
Шустрый понял. В детстве его двоюродный дядя женился на женщине из соседней страны. В соседних странах по-другому крестят. Нужно креститься заново. Иначе нельзя жениться. Почему-то все считают, что это правильно, и что так угодно Господу. Будто, знаете ли, амичи, у Господа дел других нет, как только следить внимательно – не собрался ли кто жениться на бабе из другой страны? И ежели собрался, то крестился ли он снова, или же вовсе нет? И если нет, то непременно сразу лично идет понижать расценки и повышать тарифы.
Шустрый посмотрел на Полянку. Ей-то как раз все равно, кто какой веры. Следовательно, пожелание исходит от вышестоящих – от самой Барыни.
В дом вбежал Пацан, увидел Шустрого, обрадовался, и сказал:
– Я вот такого сома только что видел! – и показал руками, какого. – Блядский бордель, землерои на берегу кричали, спорили, что такого большого никогда раньше не было. Маман сегодня с утра злая была, и по дому бегала, будто у нее пушка в жопе. Что сегодня на ужин? Вот ебаное говно, я коленку как рассадил!
И показал коленку.
– На ужин сегодня получение тобой пятнадцати плетей за хамство, – механически отозвался Шустрый, думая о своем. – Не смей обижать мать…
– Я не обижаю, я из любви чистой, – заверил его Пацан.
И обратился к матери на наречии местных. Та, оживившаяся и переполненная надеждой, ответила что-то скандальным голосом. Пацан слегка обиделся, и тоже что-то ей сказал скандальным голосом. Шустрый пытался вникнуть в суть перебранки. Замелькали знакомые слова вперемешку с незнакомыми.
– Не цепляйся ко мне, дура! Блядский бордель! – кричал Пацан.
– Как ты смеешь так говорить с матерью, орясина! – кричала Полянка.
Шустрый уловил, что, по мнению Полянки, Пацан рожден ей на сущую погибель, а Пацан не соглашался, и говорил, что ничего плохого не делает, а она к нему все время цепляется, как вонючая пиявка. Что-то в этом роде. Никакого отношения к браку и крещению в иную веру разговор не имел.
Ужин Шустрый приготовил сам – курица, приправленная травами и луком, с гречкой. Суп он в этот раз варить отказался, хотя Пацан очень любил суп. Полянка кормила Малышку в уголке пышной своей грудью, напевая какую-то песенку, когда в дом без стука вбежал знакомый Пастух и что-то прокричал восторженно. Шустрый посмотрел на Пацана, и Пацан объяснил:
– Сын Барыни с войны вернулся. Все бегут к крыльцу. Можно я тоже побегу?
– Побеги.
Наутро Сынок проснулся с легкой головной болью, вскочил с постели, помычал немного, подержался за голову, и пошел к умывальнику. В усадьбе ходили, бегали, переговаривались. Сынок быстро умылся, оделся и направился в столовую, где его уже ждала свежая, радостная Барыня.
– Садись, садись, сейчас тебе будет кофий, – сказала она жуайельно, и потрепала его по голове, а он поморщился. Тогда она его поцеловала в щеку, а он прикрыл глаза. – Что, голова болит? Ну, не грех, не грех! Нужно же было тебе вчера выпить на радостях, да и мне тоже! Какой ты у меня красивый, а? Как из сказки.
– Сказка есть ложь и поклёп, – сказал Сынок. – А у тебя, мутер, и кофий в хозяйстве водится? А то я думал, вы здесь лишь квасом пробавляетесь, в патриотизме тыловом погрязши. А что это у нас Поп делает с утра пораньше? Это что же, порядок у тебя тут такой – Поп за тобой заходит, чтобы на службу вести? Остроумно. Эй, Поп, по жопе хлоп, что вы тут торчите, скажите на милость?
– Не паясничай, служба позже, – сказала Барыня. – Он тут по другому совсем делу. Несуразица вышла, как бы брожение умов не началось. Я тебе вчера не рассказала? Я уж не помню.
– Нет, ничего такого не говорила. Брожение умов?
Барыня не знала, можно ли говорить об этом сыну – что в собственном имении пригрели вражеского мужчину. Как-то он это воспримет? Отец погиб, сам Сынок натерпелся, а тут вдруг вон чего. Рассердится? Выгонит? Шустрого гнать незачем, он хороший парень. А неудобно как-то. Не говоря уж о том, что … впрочем, об этом действительно лучше не надо…
– Понимаешь, – сказала она, – тут к нам…
– Заявляем тебе со всею строгостию, Барыня, – возвысил голос Поп, подходя. – Басурмана я крестить не буду! Пусть отправляется в ад, где ему и положено вечность коротать! Причуды твои, Барыня, хороши, когда невинны оне. Мы супротив невинных твоих причуд ничего ровно не имеем, и согласны со всем нашим обхождением их терпеть. Но – крестить басурмана?! Это – уж нет, прости, ежели что не так. Здравствуй, молодой барин.
Подбежала служанка, подала Сынку чашку с кофием. Сынок отпил глоток, поморщился, еще отпил, и спросил:
– Что за басурман? Ничего не понимаю. Вы тут все обезумели. Что жизнь в провинции с людьми-то делает!
Барыня начала объяснять, что вот, пришел голодный, промерзший…
– А, ну так что же? – удивился Сынок. – Зачем его крестить? Он и так крещеный. Разве что из арабов каких-нибудь, или турок? А может иудей?
– Нет, не из арабов, – Барыня покачала головой. – Полянку он обрюхатил.
– Опять ничего не понимаю. Какую Полянку?
– Баба есть у нас, вдовая.
– А! Понял. А крестить – это что же, наказание такое, что ли? – спросил Сынок иронически. – За то, что обрюхатил?
– Не дури, – велела Барыня, а Поп засопел возмущенно. – Не дури. Жениться ему надобно на ней.
– Утопить его надо, – проворчал Поп.
– Батюшка, – возразил Сынок, – а не вспомнить ли нам с вами заповеди? Мутер, басурман этот твой хочет у нас остаться, что ли?
– Уже остался, – сказала Барыня. – Работает, столярничает. Дом построил себе.