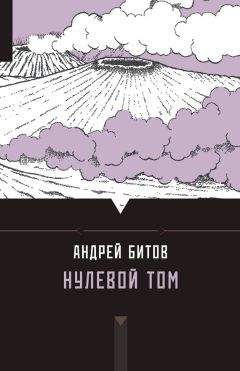Газета трехлетней давности… Что делал я три года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй что, я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку и, какую не находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя – такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. И потом тоже не утруждал себя писанием лишних, обеспечивающих меня бумажек, верил на слово. И теперь у меня не хватало: трех одеял, двух спальных мешков и одного матраца; одного радиоприемника, которого я в глаза не видел, двух мисок и трех ложек; был фантастический перерасход рукавиц, а главное, не хватало насоса-лягушки, который я отправил на склад как недействующий, а накладной не выписал – не иголка же, насос! – и теперь его не находили на складе.
А также не хватало 50 метров обсадных труб, которые, как это явствовало из моего акта приема, я в свое время принял, в чем и расписался. Все это составляло фантастическую сумму денег, которой у меня, конечно, не было. Насос все-таки нашли, трубы как-то списали, остальное из зарплаты высчитали… Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.
Я тоже было вступился за женщину на улице. Тоже были три хулигана. Поднакидали они мне изрядно. Тут и милиция подоспела, а хулиганы убежали. И женщина сказала, что это я сам пристал ни с того ни с сего к совершенно посторонним людям. Женщина направилась к хулиганам, поджидавшим за углом, а меня забрали в милицию, как учинившего драку на улице.
И буран был в моей жизни. Только меня не заметало и меня не искали с вертолетом. А был я в это время на Севере. И поставили меня на узкоколейке слесарем-смазчиком. И ходил я с крючком, проверял буксы и стукал по колесу молоточком. И думал, что никогда бы в жизни не мог представить себе, что буду этим заниматься. И все вспоминал, как ехал летом с мамой на юг, и на каждой станции появлялся этот таинственный чумазый человек, поднимал крючком крышки и стукал по колесу молоточком, и я уезжал, а он оставался, с крючком и молоточком, потому что вряд ли он ехал вместе с нашим поездом. А на следующей станции – точно такой же. А может, он и едет вместе с нами и слезает на остановках?.. Я иду, проверяю, мороз чуть ли не за сорок, и метет. Поднимаю крышку и молюсь каждый раз, чтобы все в порядке было, чтобы не пришлось сейчас менять подшипник или, упаси боже, даже скат на таком-то ветру и морозе. А платформы, как назло, все старые, подшипники все горят, и оси горят. И я кричу в будку – выходит вся бригада, и мы начинаем подсовывать под ось палки-елки – вываживать, а ветер свистит, руки как клешни у вареных раков… И только бы этот чертов скат был единственным в этом составе – тогда в нашу конуру, к красной печке…
А когда Генрих попал в извержение, у меня на буровой в утреннем тумане в зумпф с глинистым раствором упала и утонула коза… Сбегали мои работяги за мной. И вот стою и смотрю, как неловко они эту козу извлекают и дотронуться до нее боятся, и думаю, что мне теперь с этой козой делать, как быть с ее хозяйкой? Денег уже вторую неделю нет, нечем мне с ней расплачиваться… Или просто зарыть эту козу, будто ее и не было? Тоже нехорошо… И чем мне теперь работяг кормить, раз артельные и вообще все деньги вышли? Разве у куркуля Петра занять? У него должны быть, только он разве даст, сам с голоду подохнет, а не даст. И лучше бы, думаю, прибили мы эту козу в свое время, раз уж все равно ей суждено было, да ели бы теперь ее мясо.
И что общего у нас с Генрихом? Ничего. Он в команде мастеров играл, а я даже в детстве футболом не увлекался. Он два факультета кончил, самых сложных, а я в том же институте – один, самый легкий, и то с трудом, в три приема: между первым и вторым курсом поместив завод, а между вторым и третьим – армию… И ни разу не попадал я на передний край – все какие-то задворки: ни почета, ни перспектив, ни даже выполнения плана, ни в газетах не напишут, ни даже благодарности в приказе не дождешься. Только вот люди мне всегда исключительные попадались. Или очень хорошие…
Зачем я, собственно, лечу к Генриху? Я лечу в творческую командировку. Но это еще ничего не объясняет. То есть не объясняет зачем. И вообще, что это такое, творческая командировка? По совести, понятия не имею. Никогда в такие командировки не ездил. И всегда относился к ним пренебрежительно. Ехать, утверждал я, так ехать. Застревать. Надолго. Работать. Вариться. Никакой ты не писатель, а вот приехал жить и работать, по необходимости приехал, так уж жизнь сложилась. Пройдет время, жизнь твоя перегруппируется – вернешься домой, к маме, к жене и детям. Только так ты можешь что-то увидеть, если точка зрения у тебя естественна и ты на нее не взобрался, а в ней находишься, в этой точке. А то – что такое… говорил я, творческая командировка!.. Приехал, посмотрел и уехал. Ничего не увидел, ничего не понял. Ни в чем не властен. Что покажут – то и ладно. Не годится, говорил я, не годится уважающему себя автору допускать себя до таких вещей. Да потом, если все будут прежде, чем ты успеешь куда-нибудь войти, знать, что ты писатель, то все для тебя будет закрыто, все будут цепенеть и мертветь перед тобой, и люди, желая лучшего, станут натянутые и неживые, как на групповой фотографии, снятой провинциальным фотографом.
Но я лечу, если можно назвать полетом бесконечные сидения в каждом промежуточном аэропорту. И я не переменил точки зрения на подобные командировки. А вот соблазнился… Такая возможность: съездить к другу, в места, где давно мечтал побывать, а случая к тому все нет как нет; такая возможность – грех ее упускать. И вот если раньше я ездил все и ездил, оказывался то там то тут – работяга, солдат, геолог – и все что-то интересное увозил с собой в памяти, то теперь еду специально, чтобы обогатиться творческим материалом, быть ближе к жизни (куда уж ближе, если ты живой!), еду специально, чтобы увидеть нечто из ряда вон выходящее, а это ведь мой собственный приятель, друг детства… И поневоле возникает мысль: а как вдруг я возьму и ничего, ничегошеньки не увижу из-за этого своего «специального» намерения увидеть? А если все вдруг онемеет перед моим специальным взором, что же я напишу тогда? Стыдно ведь будет.
Бросил дома дела, жена опять ворчит, что уехал, кто теперь дрова колоть будет и печки топить? И художник, мой друг, что-то к нам домой зачастил, и дочка опять простужена. И еду я мешать занятым людям, и в деле-то я их ни черта не смыслю, буду спрашивать какие-то маловажные глупости с серьезным видом, и прочее, и прочее приходит на ум, когда летишь третьи сутки, и все без сна, и все ждешь.
«Что-то не так, – говорим мы в таком случае, – что-то пошло не так». В последнее время меня поддерживает уверенность, что всегда можно вернуться к себе и выделить это «что-то не так» опять же в себе и исправить – и все будет «так». Скажем, врать тебе приходится в последнее время слишком много. И больно, и противно, и не хочется – а приходится. И вроде бы ты не властен: все это ты вроде вынужден делать из самых человеческих чувств и побуждений. А заглянешь в себя и найдешь пакость, исправишь, если не поздно, – и врать вдруг не окажется никакой надобности, и окажешься ты властен. Или тебе вдруг врут – как это больно! – стучись, ломись, будь прав, требуй – все без толку, как об стену, отчаяться можно. И что остается? Задай себе вопрос: почему это мне врут? Вернись к себе – найдешь в себе же, поправишь, если не поздно, – и врать тебе вдруг никакой ни у кого не окажется надобности. И т. д. Приблизительно, конечно, и слишком просто. Но так я себя утешаю в последнее время и так стараюсь жить.
Ну а если погода нелетная?
Тут ты вроде не виноват. Можно, конечно, и тут найти свою вину… У каждого она такая, предотъездная вина найдется: в сутолоке последнего дня больше или меньше, но обязательно чье-нибудь чувство или движение то ли толкнешь, то ли придавишь ненароком, то ли не заметишь, то ли чьих-то искренних даров не примешь, то ли сам не поделишься. И это хорошо: найти в себе такое и приговорить, чтобы больше не было, хотя и снова все повторится в следующий раз. Но погода от этого все-таки не исправится. Нелетная – и все тут.
Ты сидишь на чемоданах и вдруг поймаешь себя на том, что давно уже, устав вскакивать, прохаживаться, потягиваться, прислушиваться, то ли бормочешь, то ли напеваешь себе: «Что-то не так, что-то не так…»
И действительно…
И опыт вроде есть, а проходит время – и забываешь. Все рисуется схематично и плакатно. Длинные полупустые залы, немногие люди с красивыми портфелями (ручная кладь) не спеша занимают свои красивые позы, сами изящные и продолговатые, как манекены (удобно, выгодно) или как воздушные лайнеры. И все представляется таким стремительным, просторным и вытянутым, как рисунок архитектора (бетон, стекло) с уже выросшими деревьями и нарисованным для масштаба человечком. Новые кварталы, новые районы, город будущего… И ты, припрыгивающий от острого и стесняющего ощущения дороги, видишь себя тоже таким вытянутым, стремительным и изящным, пока не споткнешься или зеркало тебе дорогу не перебежит, и не окажешься ты, живой и несколько растерянный человек, в живой и несколько бессмысленной толкотне и неразберихе.