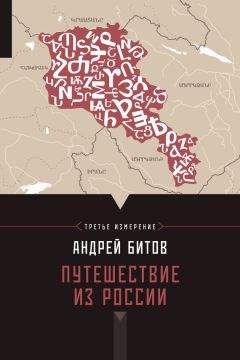Так возникал единственный путь к созданию современной картины о художнике прошлого – попытка создать этот мир столь же заново, как возникал он перед взором Пиросмани, потому что у него-то, в отличие от наших творцов, никакого другого мира не было…
Было бессилие, неспособность, беспомощность, и вдруг фильм оказался отснятым… И ту же святую муку испытывает благодарный зритель, что и создатель фильма, – вплотную подступает невыразимый образ… «Как это удивительно снято!..» – бормочет зритель. Фильм снят почти «слишком красиво», но оказалось это «почти» неперейденным: мы верим, что эта красота – видение Пиросмани. Оператор, художник Автандил Варази (который исполняет и главную роль) сделали все невозможное – трудно представить, что что-нибудь могло быть сделано еще тоньше, еще лучше. И конечно, главный герой этой удачи – режиссер. В кино это только так, если есть удача.
Но главным героем того «великого поражения», о котором я говорил, той героической и непрофессиональной тенденции рассказать о молчании молчанием, о горе – горем, о неудаче – неудачей, о любви – любовью, является для меня автор сценария Эрлом Ахвледиани.
«Наверное, – думал Эрлом, приступая к сценарию, – есть у него, – думал он про Пиросмани, – один такой рисунок и есть такое волшебное слово, что – встанешь перед этим рисунком, закроешь глаза и вдруг окажешься там, в его мире. Совсем другой воздух в этом мире, другие люди, и совсем о других вещах они говорят. Они понимают друг друга; все здесь – соответственно, и нет ничего чужого и неприемлемого. Покой и гармония царят вокруг. Совсем другое вино в тех кувшинах, по-другому пьянит оно…»
Как эта мысль близка Нико! – подумал я. Близка она и Вано. Вот откуда эта немая нить. Эрлом начинал со сказок о Вано и Нико – тогда все это и началось…
«А я бы хотел, – сказал мне тридцатилетний Эрлом, – я бы хотел воспитать в себе старика». И если в девяноста девяти случаях из ста такое заявление можно было бы считать позой, манерностью, перекосом, то в этом случае, ручаюсь, был более глубокий смысл. Даже не только такой, что можно устать от сутолоки страстей, избытка сил, полнокровия и побуждений – всей той мути, что поднята в душе напряженным и самоутверждающимся прохождением через золотую пору жизни, когда «в соку». И не только то, что на этом пути можно соскучиться по некой отрешенности и ясности, окончательности, которые возможны лишь от малых сил, от угасших страстей, в рассуждении близкого конца. Но еще и тот, вдруг показалось, был в этом печальном заявлении смысл, что Эрлом знал, что говорил, что он уже был стариком однажды и это помнил. Может быть, когда писал эти сказки. Может, когда терял любимого и первого друга. Может, когда отец начинал строить дом, который теперь Эрлому всю жизнь достраивать. Может, когда его старики были моложе.
Когда я познакомился с ним, то это был поэт, в котором философ забыл свои слова, а поэт не находил слов для выражения всей безмерности постигшей его жизни. Это был ласковый, чрезвычайно предупредительный человек, жест которого был чрезмерен по вежливости. Но если вы признавали за ним естественное право на адекватность чувства и выражения, то эта его нежная излишность была боязнью ненароком задеть, причинить боль, повредить хоть паутинку сложнейшего мира, где все всему принадлежит, все связано воедино, и неизвестно, на каком конце какой бесконечности отзывается каждое наше по крайней мере несовершенное движение. Не только кого-нибудь не задеть своей тенью, не только что-нибудь – но ничто не повредить, потому что кто знает, что может помещаться в том, что нам покажется как ничто, пустотою?
(У него есть рассказ «Когда мы будем рыбами» – исповедь камня. «Вон то – камень. Я тоже камень. Между нами вклинилась земля и пыль, как неподвижное мгновение нашей разлуки». Это первые строки. И опять можно отметить покоряющую скорость входа, какая была когда-то в его сказках. Это рассказ о камне, который когда-то упал со скалы в реку, и мимо него плавали рыбы. Потом его судьба изменилась – его выудил со дна мальчишка, выбросил на берег. Потом еще поворот судьбы – и камень оказался на улице. Он полюбил здесь другой камень. Казалось бы, сказка, но холодно делается читать эти «мемуары», когда понимаешь, что камень верит в чувство, в то, что еще придет время, когда они станут рыбами и будут играть друг с другом точно так, как он видел в самую счастливую свою пору у веселых рыб…
«Но нет…
Оба мы камни. Из камня все, что внутри нас. Из камня и радость наша и разлука, и наша близость тоже из камня; камень – глаза наши, и мечта наша из камня: окаменело наше небо и наша любовь, и сами мы – камни.
Из камня наша беседа:
– Я камень.
– Я тоже камень».)
Такой был трепетный, как пылинка в луче, он человек, что, право, можно было не поверить, что он такой и есть. Не притворяется. Но сколько бы ты его ни подозревал, убедиться ты мог бы лишь в собственной грубости. Таков был его жест, таково было смущение, нежность и любовь, когда он, странно колеблясь, избегал оказаться грубым с невидимой нежностью мира, поместившего его в себя. И кто поверил ему, тот верил в него и любил – хотя бы за то, что нашел это и в себе.
И вот теперь, спустя еще годы, я сидел в его удивительном недостроенном доме, где, как во сне, можно было ненароком открыть дверь в пустоту, где, кажется, в каком-то углу сквозь крышу можно было увидеть звезду, а через другой влетали в комнату ласточки с прутиками в клюве, словно достраивали этот дом… Дом был удивительно расположен – недостроенный, он еще больше походил на гнездо, прилепившееся на краю Тбилиси. Сразу за домом начинались отроги, поросшие выгоревшей травой, – туда можно было выйти прямо из окна и зашагать по траве вверх, оставив под собой причудливо-жилой город. Отроги эти по грузинским измерениям – холмы, по нашим – горы. За первым холмом открывался следующий, до времени скрывая за собою еще более высокий… И, выйдя таким образом из дому, чудилось, можно было уйти навсегда, до самого неба. Так я сидел на этой границе сна и яви и читал рассказ Эрлома «Агу» – и рассказ оказывался совсем о том, что я выше об Эрломе домысливал. Я сидел и листал своего рода дневник новорожденного, начинавшийся с необыкновенно глубоких мыслей еще не зачатого существа, даже не существа… тоска души по телу. Наконец повезло, нашлись родители… Но еще столько волнений, чтобы был зачат именно он (я – в дневнике!). Это случилось. Какой мудрости, почти равной природе, исполнена каждая запись нерожденного существа!.. Потом – появление на свет, мудрость уже слегка смущена возникшей вокруг суетой, но это все еще надмирная, космическая мысль, у подножия которой копошатся младенчески мыслящие родители. От сравнения с ними младенец переполняется сознанием собственного гения и решает нарушить обет молчания, поразить всех глубиной своих суждений и… Он сказал «агу!» – ликует счастливая мать. А младенец в этот момент забыл все, что знал.
Именно этот человек имел право пытаться постичь душу Пиросмани. Подозреваю, что это именно он заразил Г. Шенгелая, кружась над словом и все не находя того, одного, – именно он. И, защищенный этой любовью и немотою создателей, фильм не мог не повторить именно самого Пиросмани. Эта смиренная учеба мастеров у безграмотного самоучки не прошла для мастеров даром – и фильм разделил в чем-то ту судьбу, о которой пытался рассказать…
Я вышел из кинотеатра в выключенный мир. Он был выкручен, как звук у телевизора… Мое изображение пересекало узкий ленинградский двор, где сверху чуть доставался клочок серенького вечереющего неба. Я вышел под колпаком тишины и под ним вышагивал, вокруг лужи, мимо поленницы, серым локтем касаясь серого локтя толпы. Глаза мои были влажны, взгляд неясно различал близость мира, готовность любить переполняла меня, но некого было пугать этой готовностью…
Нет, не то чтобы переселение душ… Не то чтобы Нико вышел в моем пальто в ленинградскую подворотню… Но все-таки именно он, безмолвно шедший по желтой улице в косых штрихах мокрого серого снега по падающей под шагами кривизне старого Тифлиса, шедший, в безмолвии и безлюдье, умирать в свою конуру накануне титра «конец фильма», – именно он так и не дошел до своей смерти, перешагнув из своей тишины в мою, и мир, в который я вернулся, не сразу вырвал меня у этой тишины. Серая и плотная, как парусина под ветром, тишина, в которую врывался то автомобильный гудок, то скрип тормозов, прохожие обрывки речи, напоминала вечереющее, холодное и промытое первым снегом ленинградское небо с косыми и острыми клочьями рваной синевы… День гас, закрываясь как бы изнутри. Куда уходил день? Где он закрывается? Это пространство, этот воздух, люди именно этого дня?
Я помнил эту тишину, я уже встречался с нею… Не только вот это удивление от кино… Какое-то более раннее, более первое воспоминание принадлежало мне, и я не мог его вспомнить и приобщить к себе. Где-то я уже видел, когда-то я слушал такую же тишину не в кино, а в жизни…