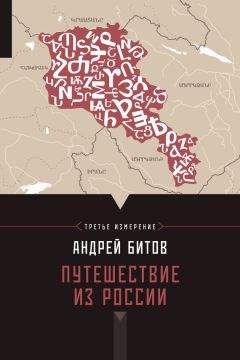В домике было похоже на нашу квартиру – ничего меня не поразило. К старенькому автору «Каштанки» я еще не испытывал ни любви, ни неприязни.
Потом мы пили на кухоньке в пристроечке чай, совсем как дома, даже буфет был в точности такой. Мама рассказала про Петербургскую гимназию и Ленинградскую консерваторию, старушка – про своего брата, но не Антон Палыча, а другого… Ничего я не помню из того, что рассказывала Мария Павловна. Помню черепашку, выползшую на дорожку сада, когда мы, благодарные, прощались.
(Было это в тот год, когда со смерти Чехова прошло столько же лет, сколько он прожил, столько лет, сколько было тогда маме, и столько, сколько мне сейчас. В задаче спрашивается, какое сегодня число и что мы за это время написали?)
Мама меня возила в отпуска за собой, и я много посетил еще домиков кроме чеховского. Был я и в Грузии, в доме Казбеги, и в доме Пшавелы, и еще как-то в Гори… Запомнил в каждом – железную кроватку и узкогорлый позеленевший кувшин в углу.
Уже тридцатилетним человеком начал я попадать в эти домики по второму разу. Меня – водили. В домик Чехова попал с известным кинорежиссером, которому мы особенно обязаны экранизациями чеховских вещей («Дама с собачкой» была уже снята, а замечательная «Дуэль» еще нет…). Естественно, нам распахнули все двери. Отцепляли для нас бархатный барьерчик, отгораживавший экспонаты от посетителей, подпускали вплотную. На тумбочке, рядом с чеховской кроваткой, лежала французская книжка по пасьянсам, на отрывном календаре навсегда осталась дата – 27 мая… Я ничего не узнавал из того, что уже видел. «Уже старушки нет…» Директор сетовал на миллион посетителей в год, на план и хозрасчет, и мы разделяли: деревянные лесенки, рассчитанные на поступь немногочисленной семьи, не были рассчитаны на всеобщий духовный водопой.
…Я много посетил с мамой домиков – я стараюсь их больше не посещать. Что-нибудь да порвется каждый раз в душе: то ли боль за поэта, то ли за себя. Чего-нибудь обязательно не простишь времени или, опять же, все тому же себе. Нелегкое это – посещать… Ненавидеть экскурсантов, отделять их мысленно от себя и убеждаться, что ничем-то ты не лучше их, если не хуже.
Да и посетить их бывает почему-то не так просто: специально – не соберешься, а когда выпадает естественный, как бы сам по себе, случай, который тут же захочется истолковать как знак или судьбу, то и тут… То ли выходной, то ли еще хуже. Я возвращался на машине с юга и втянулся уже в среднюю полосу, которую и стремился поскорее преодолеть, утомленный долгой гонкой и однообразием представавшего предо мной вида, как вдруг… Что это? Так обрадовался взор!.. Пейзаж поражал культурой и свободой. Разгадка последовала – на указателе было написано: «Спасское-Лутовиново». Сама судьба распорядилась – когда бы я еще так счастливо туда попал?.. Но та же судьба распорядилась и мною: мне нечем было заплатить и скромную входную плату: я не обнаружил бумажника – ни денег, ни документов! – видно, лишился его на последней заправочной, от которой отъехал почти на пятьсот километров… Не навестил я Ивана Сергеевича! А может, и кстати. С чего бы вдруг? Может, я бы еще больше расстроился, чем от бумажника…
Из всех функций поэта для своего народа, из всех заслуг не отмечается и еще одна – бесспорная: природоохранная. Сколько истории, сколько памятников культуры сохранили они нам одним своим именем… Но и – сколько пейзажей! Не охраненные их священным именем, рассосались бы и эти: вырубили бы рощу, растащили усадебку, будь она просто так. Ничья. Право собственности остается за поэтом, оно священно; оно освящено, впрочем, нашим правом собственности НА поэта. Оттого до сих пор можем мы не только вычитывать в прекрасных их произведениях, но отчасти и собственными глазами видеть, как жил человек и что его тогда окружало, когда он еще был. Чернильница, беседка, аллея… тросточка в углу, дуб на бережку, единственно столетний на всю округу… «Вновь я посетил…», «Я помню чудное мгновенье…» и «Нет, весь я не умру…» В наш век природа – такое же камерное, культурное пространство, как и стихи о ней. И если вдруг, проезжая по российскому шоссе, на смену бесконечным выродившимся, беспородным рощицам и порубкам, сплывающимся в общую просеку, на смену вываливающимся прямо на «проезжую часть» обветшавшим избам и заборам вдруг изящно изогнется дорога, входя в широкогрудый, чистый лес, и даже рельеф облагородится, откуда-то возьмутся живописные холмы и поляны, блеснет чистая вода, природа задышит культурой (ибо и дикая природа, без вмешательства, приходит к своей культуре…), даже до того, как вы увидите уже и впрямь культурный, насажденный и не вырубленный впоследствии парк или сад, прежде, чем мелькнет чистая церквушка с необломанным или непогнутым крестом, прежде, чем увидите на скромном и самом удачном месте уютный особнячок… – можете быть уверены, что вы приближаетесь к дому поэта, покопайтесь в своей эрудиции – какого… Поэт – последний крестьянин. Хозяйство его не только цельно, но и цело.
Может, не надо туда ездить на автомобиле?.. Нам предстояло путешествие – мой друг хотел показать город, где он родился. По дороге могли бы и заехать куда захотим. Свернуть. Но – куда? Скажем, в Гори. Или еще раньше – в Сагурамо. В Гори или в Сагурамо? Не хотел я в музеи – куда милее мне был в тот момент простор. И в Гори я был… Когда? Неужто тридцать лет назад!.. Ужаснуло меня. Но все хотели. Все хотели того, что я хочу. То есть все хотели, чтобы я хотел. Тогда уж в Сагурамо. Там я хотя бы не знал что. Туда я чуть меньше не хотел. Мы свернули с трассы с непонятным облегчением, которое рождает поворот: ехать совсем не туда, куда собрался…
Что я там мог не видеть? Машина заскребла по щебенке, круто в гору. Средиземноморская сухость камней и кустарников весело цепляла глаз. И вот любопытно: всегда-то мы себе что-то представляем, собираясь увидеть нечто в первый раз! Какой-то расплывчатый монстр из уже виденного и того, чего никогда не увидим, заслоняет взор: там в тундре прыгает кенгуру, и петербургский дождик идет на Монмартре… Растоптанный чеховский домик вставал перед моими глазами на том подъеме, санаторные толпы восходили по рыдающим, шатким его лесенкам, светлая память не запомненной мною Марии Павловны печально витала над цементной гробницей, в которой был захоронен живой при ее жизни дом. Но дом этот перед моими глазами был и чеховский и не совсем чеховский – лесенка, по которой я взбирался в памяти, завела меня совсем на другой этаж дровяной дачки в Сестрорецке, и не Мария Павловна, а все еще живая Вера Владимировна пропускала меня по той крутой лесенке наверх: «Осторожнее! Видите плакатик на притолоке? Его еще сам Михаил Михалыч написал. Чтобы гости не стукались…» «Береги лоб» – тщательно на тщательной же фанерочке начертано было рукой мастера. Покорный его воле, невольно склонился я, входя… Так, рассказывают, устроен вход в гробницу Наполеона, что каждый поневоле склонит голову. Но какая разница была в этих двух величиях и величинах!
Это был самый живой писательский музей из всех мною посещенных. Живой, как последний вздох, как осенняя паутина, как комната, из которой вышли, но еще слышны шаги. Он был жив и легок, как воздушная поступь старушки, как серебряный пух, нимбом светившийся над ее головой, как непрерывный девичий ее щебет, несмышленому мне пояснявший… Я сел за его стол. «Вот эти две колобашечки он тоже сам сделал, чтобы ставни не хлопали. – И она вставила колобашечку между окладом и рамой, распахнув окно. – Очень удобно». За окном был нехитрый садик, где дрова поддержали заборчик; с косым сортирчиком, опиравшимся плечом на ветви вросшей в него бузины… Я, робея и наглея, поднял со стола очочки, сложившие лапки, как кузнечик, две пыльных ватки были прилажены для переносицы… Их тоже «сделал» сам Михаил Михалыч, как мне пояснили; очки – натирали! Но натирали они живую переносицу! Ватка касалась! Касалась носа!.. Нет, я не мог больше… Продолжатель Гоголя и наследник Чехова!.. Я крутил в руках бумажку, этакий бланк на пол-листе, размером в командировку, предписание или повестку, за подписью инспектора по учету кадров. В бумажке извещалось, что решением… ему (Михаилу Михайловичу…) присвоена? присуждена? установлена (вот!) персональная пенсия размером в наши сто двадцать рублей. «Вы не представляете, как он обрадовался! – поясняла Вера Владимировна. – Теперь я хоть уверен, сказал он, что ты не умрешь с голоду. Тебе положена после меня половина…» Она его уговаривала не ехать (он плохо себя чувствовал): успеешь еще оформить-то, дело-то уже решенное. Он страдал нервным заболеванием – не мог есть… (Разве? как Гоголь? что вы говорите! я не знала…) он сказал: «Ты меня знаешь, я не успокоюсь, пока все это…»
И поехал, как я ни уговаривала, вернулся совсем плохой… То есть он ее не успел получить, первую свою пенсию, – тень Акакия Акакиевича накрыла полой своей шубы великого сатирика… А старушка так же звонко (у нее поразительно отсутствовала в речи пауза) рассказывала мне, как они познакомились, какой он был красивый, как он вернулся с фронта, еще в шинели, и носил башлык, а они возвращались из гимназии, и подруга ей говорит: «Смотри, какой башлык!» Мы так «башлыком» его и звали: потом он однажды к нам подошел. Именно гимназисткой была и оставалась замечательная старушка, все еще более гордясь своим личным знакомством с пресловутой Чарской (она ей написала читательское письмо, и вы можете себе представить! ответила!..), чем тем, что стала женой великого писателя…