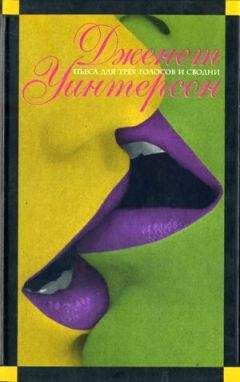Был ли я застенчив? Гораздо ловчее, чем многие мои сокурсники, почти не навязываясь, мог познакомиться с девушкой, подсев на парковой скамейке или за столиком в кафе. Лучше многих танцевал на курсовых вечерах. Но они, мои сокурсники, уже обзавелись историями, интригами, знакомствами, встречами, симпатией и ревностью незнакомых мне девушек с других факультетов, и даже горожанок. Рассказывалось это с многозначительными умолчаниями, там, где предполагались интимные подробности, и все же ничего особенного не ощущалось. И всё это вошло в их жизнь этих лет также привычно, как безделье, пища, изматывающее штудирование и предэкзаменационный страх.
С видом бывалых поглядывали они на мои затянувшиеся детские забавы, становились в тупик: не пускать в дело такой редкий набор отмычек к женской душе – умение играть на гитаре, запросто знакомиться, не лезть в карман за словом, легко танцевать. Вместо этого продолжать бессмысленные шатания, которые оставлены ими в прошлом, или целые вечера терять на балконе полупустого спортивного зала, где тяжким потом добывают себе гибкость, прыгучесть, раскованность, летучесть гимнасты, или, что уже совсем смешно, торчать допоздна над одной и той же пожелтевшей от времени «Илиадой».
* * *
Пляжная жизнь, с показательным набором бронзовых тел, с взбитой белизной прибоя, излишками солнца и влаги, ослепляющая до черноты в глазах, шумно и медленно вращается вокруг меня. Играют в карты, в шахматы, слушают транзисторы. Знакомятся, заигрывают, едят. Окунают детей, шлепают их, вытирают, уводят в кустики. Читают или просто лежат ничком, кто грудью, кто спиной – к солнцу.
Мы же неразлучны. Не могу представить себе, как раньше был без нее. И здесь, у моря, в отличие от «Незнакомки» Крамского, представшей мне впервые в Питере она скорее подобна «Венере» Боттичелли, выходящей из пены морской. Вдоль берега доходим до архиерейской купальни, так игрушечно, скудно выделяющейся своей пустынностью, глиняными белеными заборчиками, аккуратными деревянными строеньицами, стеклами окошек, лестницами – среди вальяжно развалившегося тяжко шевелящегося хаоса пляжей.
Изредка мелькает среди строеньиц молодой служка в черной до пят рясе, легко взбегает по лесенке. Чудится, еще миг, и лохматая черная птица далекого моего детства замечется среди решеток на колокольне.
Неужели надо поверить в то, что я бездумно плыл через годы, выбрасывая за борт, как балласт, всё, неуклюже складывающееся в мою жизнь. И всё это с единственной целью добраться до того, что в смутных мечтах вставало искупительным исполнением всех ожиданий души – единственной встречей с единственным существом?
Но то, что случилось на Греческой площади, все же не дает мне покоя. И этот взгляд Светланы, встретившийся с глазами Анастасии, взгляд, в котором ярость смешалась с беспомощностью, и эти глухие звуки, вырывающиеся откуда-то из глубины ее груди. И ощущение невероятной горечи и жалости к Светлане, несмотря на то, что она предала меня, и одновременно любви невыразимой к Анастасии.
Только теперь, вспоминая лица моих сокурсников, с бывалым видом поглядывающих на детские мои забавы, с грустью понимаю, что это я был не ко времени въедливо взрослым, а они скорее походили на ораву молодых щенков.
Мы существовали среди скучной необходимости семинаров, зачетов, лабораторных занятий, выпивок, ухаживаний, более похожих на ритуалы, по которым тебя признают полноценным членом студенческой братии. Но по настоящему удовольствие им доставляли лишь часы, когда они с кряхтеньем возились, пытаясь побороть друг друга, и могли целыми днями с небольшими перерывами заниматься этим изматывающим делом. Или прыгали, как петухи, на плечи друг друга, или уже в полном блаженстве наполняли комнаты общежития звериными криками – уханьем, мяуканьем, обезьяньим хохотом, лаем и ржаньем – будущие специалисты своего дела, кандидаты наук, главные геологи экспедиций: курс у нас был способный.
И у всех клички. Вот они, окружили меня.
Добродушный, багровеющий так, что даже белки наливаются кровью, Алька Веселов – «Самовар».
Высокий, почти сутулый Кухарский с тяжелыми надбровьями и веерообразными ресницами, до того черными, будто каждое утро мажет их ваксой, – «Большая кукарача».
А рядом с ним всегда Витёк – руки короткие, как ласты, и движет ими, загребая от груди за туловище, как плывет, круглый, поблескивающий маслинами глаз, – «Малая кукарача».
Короткий, как срезанный, с большой лобастой головой и челюстью американского бизнесмена с карикатуры, – не хватает лишь сигары в уголке рта – хищно летящий впереди своих ног Данька Дубровский – «Кулан».
По медвежьи косолапый, волосы ёжиком, легкомысленно ввязывающийся в любые споры и потасовки и потом, не в силах выпутаться, просто убегающий – Гринько – «Крак». Худой, с мелкими красивыми чертами лица, длинный, разламывающийся в тазу так, что ноги как бы отстоят от туловища, и потому, кажется, все время ходит как на ходулях, Юра Царёв, будущий мой соперник, часто похрустывает пальцами рук. Отсюда и прозвище – «Тридцать три косточки». Перекат с «т» через «р» на «и» похож на хруст суставов.
У меня клички нет, не пристает, чувствую себя от этого ущемленным. Что-то отделяет от них, относит. Так же, как они, шатаюсь от безделья, корплю на лабораторных занятиях, также ем, что и когда попало. Убегаю на озеро, чтобы побыть одному, и тут же рвусь в толпу. Но за всем этим как бы пребываю в мечтательно сонном оцепенении. Замерев, слежу за собой со стороны, за тем, что делаю и думаю, даже скорее за тенями дел и мыслей, далеко и призывно вытягивающимися тенями. Они словно обозначают темную загадочную глубину, уходящую за всё прочитанное, увиденное, осознанное. Они как будто стягиваются остриями к тому упрятанному, настоящему моему «я», и мне кажется, если так сосредоточиться в себе, сжать себя до стальной твердости и тонкости иглы, – откроется, как гимнастам в поте лица, отпущенная мне раскованность, свобода, летучесть, гибкость. Выходит, я неспроста торчу подолгу на балконе спортивного зала.
* * *
Смешны мне и дороги эти самоуглубления, самоистязания восемнадцатилетнего, начитавшегося благих глупостей, думающего, что если быстро бежать – куда глаза глядят, можно убежать от самого себя. Или хотя бы сохранить мечтательную легкость детства, пытаясь замешаться среди ахейцев или защитников Трои, – снова забраться в громадное, каждый раз от строки к строке строящее себя здание «Илиады».
Между тем и здесь не укрыться. Замечаешь, что уже потрясает не та медь, чье гладкое, без единой царапины, великолепие отражает блеск солнца, но удары – тупые, колющие, режущие. Не та медь, чей пышно блещущий чеканный рельеф выпукло надвигается на моего отца, близорукого, невоенного.
Потрясает медь после ударов – измятая, пробитая, разодранная, в крови. Ее стаскивают с раненых и убитых: откинутая рука, раздробленное бедро, оскал смерти, исказивший лицо, в котором жила и дышала красота, врубленная Фидием в мрамор.
«Длиннотенная пика», меч, обод колесницы заменяется пулей, снарядом, танковой гусеницей. А смерть всегда однообразна: ее бледная сукровичная текучая слизь проступает везде сквозь божественный блеск сражений, через пышные гомеровские эпитеты, украшающие героев, как султаны перьев на их шлемах, через велеречивость, звучные имена – проступает, как через марлевую повязку.
С любопытством смертного слежу в зеркале общежитской душевой за человеческим телом, с такой тайной любовью сработанным Богом и природой, за дивной гибкостью рук, плеч, бедер, спины, слаженностью мышц, и слабо гнилостный запах отмывающейся плоти, преследует меня боязнью ранней смерти. Стройность эллинов знающих толк в том, как тренировать тело в гимназиях, подобных нашему спортивному залу, пропахшему опилками и потом, с сетками на окнах, с гимнастами, раскачивающимися на перекладинах, брусьях, кольцах, тонкий ум, пестуемый сонмищем величайших во времени философов, – и всё это в рубку, в хруст, в перегной.
Долгий плач, бледный морок, повисший над полем смерти, через тысячелетия настигает меня неоплатным обвинением: матери должны оплакать сыновей, сыновья – отцов. Помню отца моего. Переодевается. Сутулые плечи, кожа такая беззащитно белая, рядом с черными волосами на груди.
Стыдливо скрестил руки на груди, пока мама достает ему рубаху из шкафа.
А живым столько дел. Подлить масло в светильники, подправить виноградную лозу, укрепить ветшающие дома, поддерживать огонь в очаге, чтобы зима была зимой, лето – летом, сон – сном, а еда обильной, чтобы не ослабевал мужской голод, жажда справедливости и доброты. В редкие мои приезды домой мама покупает на скудный свой заработок мясо, овощи, даже бутылку вина, бабушка суетится у плиты, кухонька полна пара, а я под снизившимся потолком узнаю, что вырос.
Витёк силой тащит меня к Даньке Дубровскому. Говорит, девочки будут с филологического, очень заинтригованы. Геолог и вдруг читает смертельно надоевшую им «Илиаду». И, главное, не по программе, а – добровольно.