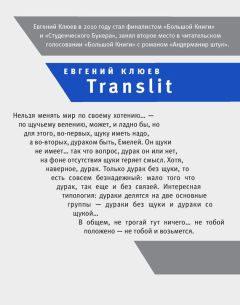Он, видимо, теперь не мог бы жить без Копенгагена, вне Копенгагена. Уже завтра он поедет в центр, выпьет кофейку, полистает книги в «Палудане», а может, и купит какую-нибудь – в честь возвращения.
С зеркалом в купе, кстати, все оказалось не так плохо: на самом деле волосы были, конечно, не льняными, откуда у него льняным взяться… обычные его волосы, ну, светлее чуть-чуть, ну, гораздо светлее, но не настолько, чтобы ужасаться, а глаза – ах, да и черт бы с ним со всем, не в том он возрасте, чтобы так пристально в зеркале себя разглядывать! Голубые глаза – так голубые, даже лучше… ммм, для Копенгагена. Кёбенхауна. Они, небось, голубыми и были всегда.
Преимущества одноместного купе он использовал на полную катушку: прежде всего, разложил вещи – предельно немногочисленные, правда, но намеренно широко, ибо все пространство целиком было его: «уплочено», мои дорогие! Потом очень долго принимал душ, едва поворачиваясь в нем и размышляя о том, каково тут должно быть толстякам. Ничего своего у него не было – так что в ход пошли все до одного (!) крохотные пакетики дорожного мыла и шампуня, услужливо разложенные невидимыми проводниками возле раковины, и вытирался он всеми тремя(!) полотенцами – вип я или не вип, черт побери? Жалко, что халата, как у Гуннара (или просто любого халата), невидимыми проводниками предусмотрено не было – пришлось опять влезать в то, в чем был: пижама осталась в ухромавшем вслед за Манон чемодане.
Он почти готов был спросить: Манон… – это какая же Манон? Нет-нет, он, конечно, помнит – и, более того: воспоминание все еще мучительно, но вдруг и Манон вовсе не его воспоминание? Так же, как Лаура? Вполне и вполне возможно, что не свои воспоминания и есть самые яркие – и, скажем, самые мучительные. Потому что свои собственные воспоминания… – или это только у него так? – свои собственные воспоминания страшно бессвязны, и невозможно заставить себя вспомнить какую-нибудь историю подробно, эпизод за эпизодом: в памяти, цепляясь друг за друга, постоянно всплывает множество других историй – так что скоро становится непонятно, какую именно ты вспоминаешь…
– Kom indenfor, – машинально сказал он, забыв, что купе заперто изнутри.
И вот интересно было: кого же это он приглашал войти в такой час – на экране телефона сколько у нас… ноль пятьдесят восемь!
Ничего не говорят снаружи, но стук в дверь повторяется. И становится не то чтобы жутко… просто он ведь, похоже, почти один в этом вагоне, есть еще Гуннар, но Гуннар не по соседству, а в вагон с перрона может кто угодно войти! Или Спящая Царевна не пропустит? Как затрубит, допустим, в… рог! Вот еще глупости, какой рог у Спящей Царевны?
– Hvem er der?
Голос его звучал раздраженно, и это ему понравилось.
– Mig, Gunnar.
Разговаривать с Гуннаром прямо сейчас, ей-богу, не хотелось ни секунды. И он извинился, крикнув через дверь, что принимает душ и минут через десять зайдет сам.
Совершенно непонятно было, зачем он опять понадобился Гуннару: вроде как, распрощались до завтра – тем более что и разговор сам собой увял, не на корню увял, но это неважно – на корню или не на корню.
Он пойдет к Гуннару, когда они начнут ехать. Подняв штору на окне, он увидел только темный неподвижный поезд на противоположной стороне перрона. И – никакой информации на электронном табло. Может, имело бы смысл выйти и покурить еще раз? Целая ночь впереди – при том, что курение в поезде запрещено: не Россия. А никоретта в кармане – помощь небольшая… кто понимает, конечно, хотя кто ж не понимает!
Накинув куртку и накрутив на шею шарф, он чуть ли не на цыпочках проследовал мимо двери купе Гуннара к выходу– будучи, впрочем, уверен, что нигде с Гуннаром не столкнется: випы теперь не курят, берегут здоровье, молодцы.
На перроне, хоть и пустом, было вполне ничего себе: рассеянный такой свет, пара каких-то живых огонечков впереди, слабые звуки ночного Стокгольма…
Но в проеме двери возник ведь все-таки Гуннар – в халате на голое тело и шлепанцах:
– Ты чего тут делаешь? – причем вид у Гуннара озабоченный.
– Да вот… курю напоследок.
– Ну и я постою с тобой. Ты кури, кури.
– Тебе – пардон, конечно, – ничего так… в халате на перроне? – спросил он Гуннара, невольно покачав головой.
– В каком смысле?
Нет, иногда его все-таки раздражала эта знаменитая скандинавская простота. А ведь, казалось бы, свобода… свобода самопроявления – чего ж раздражаться? Свобода и есть игнорирование обстоятельств: мне удобно, а если другим не нравится – это их проблема.
Гуннару удобно в халате на перроне.
Между тем гуннаровский вопрос «в каком смысле?» продолжал висеть-где-повешен – и надо было как-то отвечать.
– Со стороны, небось, забавно, – напряженно отшутился он, – двое на платформе разговаривают, причем один из них в верхней одежде, второй – в халате на голое тело.
– Мне не холодно, – все якобы поняв, отчитался Гуннар. – Не беспокойся.
Вот еще, беспокоиться.
Поднимаясь в вагон, он недоумевал, почему Гуннар так мешкает на каждой ступеньке. Словно – дурацкое предположение! – не хочет пускать его назад.
– Так о чем говорить будем? – с трудом преодолевая не то неловкость, не то глупость ситуации, спросил он, когда оба они мелкими шажками все-таки оказались на пороге гуннаровского купе.
– Да пустяки, – махнул рукой Гуннар. – Просто мысль одна в голову пришла, но теперь ушла уже, неважно, да и не мое это дело. Спокойной ночи.
– Ты вот что, Гуннар… скажи все-таки свою мысль, – он протиснулся в купе, – зачем душить порыв?
– Вино кончилось, – с тоской заметил тот. – Вино, видишь ли, кончилось, а мысль была насчет… но это, повторяю, не мое дело, зря я вообще-то… просто очень странно, что ты с пустыми руками в путешествие, так не бывает.
– А тебе обязательно таким наблюдательным быть?
– Нет-нет, – засуетился Гуннар, – я как раз и говорю, что необязательно и что… что спокойной ночи. Но так, правда, не бывает.
– Ну, хорошо, не бывает, только ты это к чему?
Гуннар молчал, набычившись.
– Спокойной ночи, Гуннар, – решительно сказал он и поднялся идти, внезапно устав от всего этого.
Но, уже взявшись за ручку двери, услышал глухое:
– Так не бывает!
– Ты, может быть, немножко того, Гуннар?
– Нисколько, – все так же глухо продолжал швед, – но я человек с носом, и… и пахнет неправильно, так пахнут проблемы. По-хорошему, тебе стоило бы опасаться и, может быть, не ехать дальше. Ты не готов к этой поездке, ты, вот, с пустыми руками…
Ему всегда везло на сумасшедших!
– Что значит – «неправильно пахнет», Гуннар, и как это связано с пустыми руками?
– Неправильно – это… это… сухофруктами… черносливом… – был ответ, видно, что мучительный.
И тут он обернулся – уточнить:
– Почему же это неправильно – когда черносливом?
Гуннар посмотрел на него почти с упреком: дескать, ух, непрофессиональный какой вопрос – для человека-то с обонянием!
– Сернистый ангидрид, SO2, продукт сгорания серы, используется при окуривании чернослива… технологическая подробность, прости. Да и ни при чем тут ты вообще, у нас вся Европа пропахла, провоняла, понимаешь ли… Эйяфьятлайокудль, понимаешь ли, а диоксид серы – он в состав вулканических газов входит, так что ничего удивительного… завтра увидимся, ладно?
– Я насчет технологических подробностей…
– Больше ничего интересного, клянусь, остальное к делу не относится… ну, убивает SO2 бактерии, свойствами отбеливающими обладает, критическая температура 157 градусов, но это все лишнее, – Гуннар чуть ли не испуганно выталкивал его из купе.
Между тем как они ехали уже.
– Гуннар, мне теперь все равно не успеть выйти из поезда, – сказал он в сходящую на нет дверную щель.
– Не успеть, – согласился Гуннар и добавил скороговоркой: – Опоздал-ты-и-попутчика-плохого-выбрал.
– Попутчика… в смысле тебя?
– Не меня, при чем тут я, я серой не пахну, – возразил Гуннар, после чего осторожно закрыл дверь и повернул ручку изнутри.
Пришлось отправиться в свое купе.
Он не то чтобы не понимал про серу – кто ж не понимает про серу! Просто… ну совсем никакого места не было сере в этой истории, о другом была история, да и вообще – легче была история, наивнее: шестилетний мальчик возвращается с родителями домой из Ленинграда и на перроне в Твери видит поезд из Хельсинки – какая ж тут сера, помилуйте, откуда сера? Чернослив – это было, а серы – не было! И всю жизнь тоненькой струйкой тянулся за ним запах чернослива…
Он явно не готов к этому новому повороту, превращающему историю в классическую и – пошлую: о борьбе добра со злом… фэнтези, он терпеть не может фэнтези с их черно-белым миром, с их примитивным противопоставлением двух начал! А потом, Гуннар ведь и сам предположил: Эйяфьятлайокудль один виноват, вулканическое облако висит над Европой, вулканические газы в воздухе скопились, отсюда и вся эта химия – сера и так далее… Да и не выбирал он себе никакого попутчика, он один шел, всю жизнь один, это камино – и однажды он встретит Бога, и все будет хорошо.