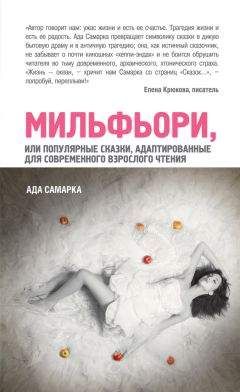– Ну, так забирай невесту-то, а то гляди, пока и передумать не поздно.
– Ой, мам, давай не… – он мялся, сияя, блестя глазами, потея всем телом.
– Давай-давай, на кой черт она мне тут…
Не зная, куда девать девочку, Барбачихин сын, стесняясь, ежась и вздрагивая от раскатистого удовольствия, бухающего в груди с каждым шагом, вел ее за руку под навес, где днем и ночью горел костер и в закопченных баках с кривыми трубами варилось зелье. Дневной свет сильно мешал ему, сейчас ничего нельзя было сделать, бубны и выпуклые серьги бренчали высоко над сосновыми макушками на востоке, откуда должны были прийти сумерки. С трудом соображая что-либо, уставший, отодвигая наступление основных своих мыслей, он выпил немного зелья, а потом, лежа на свежем сене, закурил. Рая сидела рядом, привязанная за ногу, и черные от копоти мужики пытались даже что-то спрашивать у нее, но слов было не разобрать. Когда стемнело, Барбачихин сын спал, приоткрыв рот и постанывая, как младенец, суча ногами и сжимая и разжимая кулаки.
Два нецыганских, чужих мужика (хотя и вора), придя в себя, помочившись и умывшись, вернулись под навес и отвязали Раю, сказав: «Идем с нами, он же тебя порвет».
Рая ничего не поняла, но ей было очень плохо и страшно тут, и казалось, что любое другое место может быть только лучше.
В лесу было жарко и темно, один из мужиков взял Раю на руки и нес, двигаясь на ощупь, ловко приседая и наклоняясь под низко висящими ветками. Рая крепко держалась за его шею – твердую, сухую, как полено, не имеющую ничего общего с Барбачихой. Они шли как волки – быстро и тихо. Когда взошла луна, они очутились на дороге с клонящимися курчавыми зарослями со всех сторон. Один мужик пошел в сторону Киева, а второй – на Дымер, вместе с Раей. Он был намного хуже того, второго, более доброго, и Рая жалела, что тот не стал ее брать.
Обнаружив пропажу во втором часу ночи, Барбачихин сын с товарищами позажигали факелы и бросились прочесывать лес в окрестностях. Все забыли, что чужие мужики ушли не днем, как все, и были уверены, что девчонка удрала одна.
На рассвете по дороге ехала полуторка из Киева, с бригадой строителей. Водителю стало жаль сутулого ободранного мужчину с босым ребенком в нарядном белом платье, и он взял их до Дымера. Рае ужасно хотелось пить и в туалет, еще хотелось есть, еще с позавчера, но пока не так сильно. В каком-то большом селе полуторка остановилась, несколько человек выпрыгнули из кузова. Рая хотела сперва растолкать своего задремавшего спасителя, но сейчас, в ярком дневном свете он казался очень страшным – тощий и лысый, с редкими твердыми и длинными волосинами, как проволока, торчащими на какой-то побитой, словно собранной под кожей из пластин и осколков голове, с запавшими щеками в грязной рябой щетине и злым, стальным профилем с выдающейся четко граненой челюстью. Никем почти незамеченная, Рая осторожно перебралась через борт, по колесу спустилась на землю и побежала между рядами небольшого базарчика, залезая под длинные лавы, глотая запахи свежих овощей и творога, надеясь найти на земле хоть что-то съедобное. Полуторка тем временем уехала, и тогда Рая вылезла из-под лавок, растрепанная и чумазая, с любопытством и страхом озираясь по сторонам. Стояло жаркое бойкое летнее утро. Земля под ногами была вытоптана до состояния хорошо утрамбованной пыли, точно как во дворе у мамы Нади, даже фонарь на деревянном столбе был такой же, возле конторского вида деревянных зданий стояла тощая лошадь с подводой, еще одна лошадь из последних сил, выпячивая клеткой ребра, тащила бочку с водой. Через дорогу, по которой уехал грузовик, была сгоревшая каменная церковь – огромная, величественная, даже со сбитыми куполами. Вообще, все вокруг казалось Рае огромным и враждебным. Какие-то мальчишки уже заметили ее и, недобро улыбаясь, неторопливо приближались через базарную толпу, как стайка хищников. Рая метнулась к конторскому зданию, юркнула внутрь и стала по ту сторону двери, ослепленная после яркого солнца, с головой, резко закружившейся от разнообразных густых и богатых запахов, сытно стелящихся тут в уютном полумраке. Пацаны не решились войти, и, немного постояв, Рая стала двигаться вдоль стены, к небольшому, заставленному бутылками окошку, потом съехала вниз, примостилась на корточки, надеясь получить немного пищи хотя бы через запахи.
За одним из длинных деревянных столов обедал Федор Жучилин – полноватый, лысоватый, с чудесными манерами мужчина с короткой и густой, как у Гитлера, челкой и такими же смоленисто-черными маленькими усиками.
Жилось Федору Ивановичу в те годы хорошо, до измены Родине и расстрельной статьи было еще далеко, он занимался секретным и прибыльным делом, разъезжая по всему Союзу и скупая в забитых голодных деревнях старинные иконы в золотых окладах, фамильные драгоценности, откопанные кем-то или хранимые все эти ужасные годы, чтобы достаться в наследство кому-то, совсем не достойному их, и так дальше. Половиной своего улова Федор Иванович делился с нужными людьми, а половину, никак не заявляя, сбывал сам, в проверенных и надежных местах. Помимо этого, он вел активную агитационную работу, надзирал за далекими партийными ячейками и был чем-то вроде странствующего представителя власти, исправно и много писал доносы и был фигурой с виду добродушной, но среди посвященных вызывал своим появлением ужас и замешательство. В большое зажиточное село он заехал во время командировки в Киев – повод был, как всегда формальным, хотя и важным, и потом, уже из более личного интереса, на пару часов завернул сюда, руководствуясь чутьем и древней наводкой – и не промахнулся. Богатый улов лежал в кожаном саквояже, уютно прислонившемся к голенищу его сапога.
Перепуганную девочку в белом платье он заметил тут же. Федор Иванович вообще любил детей и особенно маленьких девочек. В голодных, полудиких, кишащих клопами деревнях он часто встречал удивительнейших созданий – лет 5–8, с круглыми щенячьими пузами, и совершенно взрослыми, хотя и отчасти звериными, глазами. Они смотрели на него нагло и всепонимающе, чуть щурясь и жуя подаренную конфету, без тени застенчивости и напускной слащавости, крошечные воины, амазоночки, исправно выполняющие за нехитрое угощение его нетрудные просьбы и потом провожающие взглядами почти победоносными, надсмехающимися, остающиеся на веки в этой черной гиблой глуши, босые, распатланные, с щеками румяными, как печеные яблочки.
– Иди сюда, прелестное дитя, – сказал он, присаживаясь на корточки возле Раи и одновременно чувствуя, как сипнет его голос – ведь дитя было совсем взрослое, не щекастое и не курносое. – Ты хочешь есть? Давай иди сюда, не бойся.
Рая прошла к нему за стол, села и стала есть. Принесли еще картошки с мясом, с богатой пахучей подливкой, стакан мутной и холодной самогонки, который Федор выпил одним залпом, радостно прикрякнув и нежно потрепав девочку по голове.
– Так ты откуда-то? – спросил он, когда она немного наелась и застыла, переводя дух.
– Маму с сестрой на вокзале потеряла, попала в автобус, теперь вот тут, – рассказала Рая придуманную еще в лесу легенду.
– А мама где живет? Куда ехала, не знаешь?
– Не знаю.
– А сколько же тебе лет? – немного изменившимся голосом, почти сквозь зубы спросил Федор, не выдержал и, заслонившись тарелкой, якобы наклоняясь к чемодану, пощупал ее грудь сквозь жесткие кружева.
– Много, я только ростом маленькая, но это не болезнь, я много чего могу, – и ее взгляд полнился этим зрелым, женским, мягким, распаренным, уютным, готовым простить в любой момент: таким, что у Федора Ивановича заныло сердце и подумалось с детской чистой грустью о Боге и его вселенской щедрости.
На попутной машине они вместе вернулись в город. В одной руке Федор держал драгоценный саквояж, в другой – худенькую Раину лапку. Заходя в приемную по одному короткому и формальному вопросу, он взял ее за талию и, как куклу, приподняв, посадил на высокий деревянный сундук в углу напротив машинистки, и короткие Раины ножки вытянулись вперед, демонстрируя босые, розовые, лишь слегка запорошенные пылью ступни. Держась за сердце и чуть пьяно улыбаясь, он ввалился в начальственный кабинет.
Потом, когда все формальности были улажены, снова взял девочку за руку и повел ее по улицам. В булочной на углу Коминтерна напоил крепким сладким чаем и ближе к вечеру, пронеся на руках сквозь цветастую толпу с баулами и клумаками, подсадил легким взмахом (так, что вспорхнули юбки и с испуганным восторгом сверху блеснули ее глаза, а по лицу полоснули белокурые кудрявые локоны) на чугунную подножку трофейного спального вагона поезда Киев – Москва.
Тут были темно-бордовые ковровые дорожки и тяжелые бархатные шторы, накрахмаленные белые скатерти и торчащие острыми, чуть синеватыми пиками наволочки на подушках, золотистые ламбрекены, глянцевые поручни и похабно улыбающийся проводник, в переднике и нарукавниках.