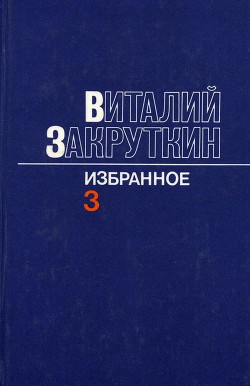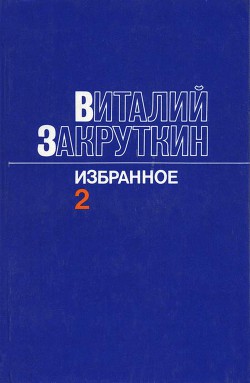Он повернулся к Андрею:
— У таких сквалыг, как Шелюгин, среди зимы льда не выпросишь. Месяц тому назад Шелюгин потравил лошадьми нашу озимую и даже разговаривать не захотел, только покрутил ус и сказал: «Требуйте с лошадей, я за них не ответчик».
— Хитер! — ухмыльнулся Андрей.
Федя подсел ближе, сплюнул по-взрослому и махнул рукой:
— Тут издавна такая мода — выкармливать скотину на чужом. Один раз дед Исай Сусаков подогнал своих коров к ячменю лесника Букреева, пасет на ячмене да еще приговаривает: «Кушайте, буренушки, кушайте…» А Букреев вышел с опушки да как свистнет деда по шее…
Братья засмеялись, представив постную, иконописную физиономию Сусакова.
— Ну а дед Исай что? — спросил Андрей.
— Ничего, почесал затылок и пошкандыбал с чужого ячменя…
Когда приехали на поле и остановили коней у крайней копны, Дмитрий Данилович с Федей остались на телеге укладывать снопы, а Роман и Андрей взяли вилы и стали на подачу. Снопы были большие, тяжелые, тугой, добротной вязки. Ребята с трудом поднимали их на вилах. Пока укладывались нижние ряды, сноп можно было сваливать ударом вил по драбине телеги, а когда стали вывершивать, ребятам пришлось туго.
Андрей, отвыкший от работы, быстро умаялся, вспотел, но не отставал от Романа. Колючие остья и соломенная труха сыпались за воротник рубахи, прилипали к мокрому телу, лицо горело. Он яростно насаживал сноп за снопом на деревянные, с косыми зубьями тройчатки, натужившись, поднимал тяжеленный сноп и кидал его на телегу.
— Берите грабли и подгребайте аккуратнее, чтоб ни один колос не пропал! — крикнул сверху Дмитрий Данилович.
Снопы на телеге затянули толстой веревкой, огребли на боках, и Дмитрий Данилович с Федей поехали домой. Андрей и Роман решили ждать их в поле. Выпив воды, они растянулись в тени высокой копны.
— Ты еще не куришь? — небрежно спросил Андрей, доставая из кармана измятую коробку дешевых папирос.
— Не пробовал.
— Может, попробуешь?
— Давай.
Они закурили, и Андрей с любопытством наблюдал, как младший брат, стоически выдерживая суровое испытание, захлебывался дымом, кашлял и вытирал кулаком слезы.
— Не тошнит? — спросил Андрей.
Роман отрицательно качнул головой:
— Чего ради? Табак плоховатый.
Андрей и сам научился курить не так уж давно, но старался показать, что он заправский курильщик и без доброй затяжки не может жить.
— У вас, поди, и папирос не достанешь, — проговорил он, пуская замысловатые кольца дыма. — Придется махорку тянуть или самосад…
Отдохнув, Андрей стал рассказывать брату о Пустополье, о школе, о новых товарищах, но ни словом не упомянул о Еле.
— Когда ты вернешься, поеду учиться я, — мечтательно растягивая слова, сказал Роман. — Стану геологом и махну куда-нибудь в Сибирь или на Камчатку. Здорово, правда?
— Ничего, неплохо, — согласился Андрей.
— А ты кем хочешь быть?
Секунду подумав, Андрей ответил твердо:
— Агрономом. Меня давно тянет к этому делу, и Фаддей Зотович, наш учитель, советует: иди, говорит, Ставров, в агрономы, это самая благородная специальность.
Воткнув недокуренную папиросу в землю, Роман упрямо сжал губы.
— Нет, я только в геологи. Сейчас мне пятнадцать лет, за шестой класс я сдам сразу, окончу школу, на рабфак пойду, а потом буду ездить по всему свету…
Андрей с удивлением заметил, что в характере и даже во внешности младшего брата произошли изменения: известный Плакса, Роман возмужал, раздался в плечах, его смуглая шея по-прежнему была тонкая, мальчишеская, по руки окрепли и загрубели.
— Отец все сильнее влезает в хозяйство, — хмуро заговорил Роман, обрывая вокруг себя колючую щетину стерни. — В амбулатории ему делать почти нечего, огнищане сами лечатся, дома. Вот он и ударился в хозяйство — завел четырех свиней, индюков, кур. А на черта нам все это сдалось? И так уж мы с Федькой батраками заделались, только и знаем что коней да свиней, и больше нет ничего…
— А ты думаешь, ему легко? — возразил Андрей. — Разве мы смогли бы учиться без хозяйства? Ты, Ромка, видно, успел забыть, как мы с голоду дохли, вороньи яйца жрали. Что ж, опять хочешь на лебеде да на кукурузных лепешках сидеть?
Роман досадливо поморщился:
— Почему на лепешках? Я не про это. Пусть себе хозяйство, только бы по нашим силам. А отец удержу не знает: есть корова — давай ему другую. Вывели полсотни индюков — выводите еще полсотни. До каких пор всю эту обузу нести? Что он, Терпужного догнать хочет или Шелюгина? Тогда пусть батраков нанимает, а мне осточертело гнуть спину день и ночь…
Вдали показалась ставровская телега, и Роман умолк.
Со звоном и грохотом телега подъехала к копне. Дмитрий Данилович соскочил с нее, повернулся к сыновьям, коренастый, загорелый, пропахший дегтем и потом.
— Чего ж вы разлеглись? Делать нечего? Подгребли бы россыпь вокруг копен, колоски у мышиных нор собрали бы да сложили на попону.
Он потянул рукой брошенную возле копны попону, увидел под ней кучу сложенных ребятами кукурузных початков, наклонился, очистил один початок и озверело кинул его Роману под ноги:
— Зачем шелюгинскую кукурузу ломали, сукины сыны?!
— Мы на развод, — бормотнул Андрей, предусмотрительно отступая от разъяренного отца. — Это «миннезота-экстра», у нас такой нету.
— На воровстве выезжать думаете? — гремел Дмитрий Данилович. — Краденую кукурузу садить? Кто вас учил этому, а? Вы горбом своим заработайте, а потом и делайте что хотите. Разве нельзя было обменять у Шелюгина кукурузу на наши початки? Чего ж вы на чужое поле полезли?
Сбивая кнутовищем приставшие остья, он заговорил спокойнее:
— Привыкайте к тому, чтобы любую кроху добывать собственным трудом. А то сегодня вам чужой початок понравится, завтра еще что-нибудь — и покатитесь под откос… Лиха беда — начало. Потом и оглянуться не успеете, как залезете в трясину…
Братья стояли потупившись, не глядя на отца.
— Давайте накладывать воз! — закричал Федя. — Солнце уже над лесом…
Работа продолжалась весь день. Поле все больше пустело, на месте копен оставались лишь темные крестовины прелой стерни да присыпанные трухой норы мышей-полевок. Неподалеку от леса, правее Ставровых, заканчивал косить озимую Павел Терпужный. Припадая на ногу, он широко размахивал косой, за ним шел Тихон, а сзади, закутанная белой косынкой, часто наклоняясь и ловко скручивая перевясла, вязала Таня.
— Танька твоя совсем заневестилась, — отплевываясь от соленого пота и хитровато посматривая на Андрея, сказал Роман. — По субботам на вечерках гуляет, а в воскресенье вырядится в длинную юбку, возьмет в руки цветы, платочек с кружевом и шляется по хуторам с парнями.
— С кем же она гуляет? — равнодушно спросил Андрей.
— Да ни с кем. Бегает со всеми, как телушка на выгоне, песни поет, полечку в избе-читальне пляшет.
— Ну и пусть ей бог помогает.
В Андрее шевельнулось чувство обиды и неприязни к Тане, но он тотчас же забыл об этом, предвкушая уже не раз испытанное наслаждение — ехать с последней телегой в деревню.
Уже совсем свечерело. На поле легли синие сумерки, от леса потянуло влажным холодом. Андрей и Роман подгребли и подали на телегу остатки розвязи, потом, держась за веревку, полезли наверх, улеглись на снопах. Дмитрий Данилович шевельнул вожжами. Сытые кони разом вытянули увязшую на стерне телегу и неторопливым шагом пошли по набитому проселку.
Раскинув онемевшие от усталости руки и ноги, Андрей лежал на спине, смотрел в чистое, чуть розоватое от вечерней зари небо, на котором неярко засветились первые звезды. Телега убаюкивающе скрипела, покачивалась, на каждый толчок колес отвечала мягким колыханием, и Андрею казалось, что он тихо плывет между небом и землей, по теплому, напоенному запахом трав воздуху. Все в этот вечер было хорошо: и колкая, щекочущая спину пшеничная розвязь, и мирное пофыркивание коней, и однотонный звон колес, и, самое главное, ласковое, колыбельное колыхание телеги, отдаваясь которому Андрей каждой кровинкой наморенного тела ощущал покой.