Ты советовал мне, Ааду, взяться за перо и описать эту пиратскую историю, которую я рассказал тебе прошлой осенью на пристани Виртсу. Осенью мне было не до того; когда же зимой наш траулер сковало льдом под Ригой, все уехали домой, а я остался на корабле за вахтенного, пришло самое время. И тут мне стало ясно, как божий день, что одно дело рассказывать свою байку так, от нечего делать, и совсем другое — переложить ее на бумагу. Когда рассказываешь, слов полон рот, для бумаги же никак не подыщешь нужного. Несколько лет я был председателем колхоза, писал акты и доклады, а вот чтобы настрочить свою историю, рука, того, дрожит… Немало я прочитал историй, написанных другими, — прочитал дома, на островке Ухта; у меня вообще изрядная библиотека о рыбаках. Да и здесь, в рубке траулера, под рукой дюжина книг, хотя сам я никогда еще не писал ни строчки для печати. Но, ежели ты считаешь, что дело стоящее и с изюминкой, поменяй имена, поправь что, коли нужно, и пусти под своей фамилией.
Это случилось в те времена, когда на нашем островке еще не было электричества и председателем рыбачьего колхоза, первым председателем, был я, Хейно Окиратас, сын Лийзи.
«Случилось» — не совсем подходит здесь, потому как на маленьком нашем островке, насколько мне известно, никогда не случалось ничего такого, чтобы молва разнесла это далеко за пределы самой Ухты. Но и в уединенных местах и безо всякой молвы происходят дела, надолго оседающие в памяти очевидцев, хотя посторонние о них ничего не знают. Да иной раз и лучше, чтобы люди не трезвонили ни о событиях маловажных, ни об уединенных местах. Я вот уже почти четверть века примаком на острове Ухта, но никогда еще не слышал, чтобы коренные ухтусцы жаловались, что-де их островок малоизвестен и незаметен. И пожалуй, как раз из-за малости и уединенности Ухты ее миновало не одно тяжкое испытание. Скажем, последняя война.
Когда в 1941 году осенью немцы захватили эстонский материк и острова, Ухта показалась им пунктом столь незначительным, что они даже не разместили на ней своей охраны, как это произошло на более мелких, но близких к открытому морю островках. Узкая низкая безлесная полоска острова, десяток-другой рыбацких домишек, разбросанных здесь и там, школа, бакен с мерцающим огнем и полдюжины ветряков — все это было как на ладони, если смотреть с материкового побережья. Какую туда еще охрану! Главное, чтобы вовремя сдавали рыбу.
Я, уроженец Сааремаа, попал на Ухту в октябре сорок четвертого, когда Сааремаа был еще в руках немцев. Дважды меня задевали пули: первая под Великими Луками вошла в правое плечо, вторая на нарвском плацдарме ужалила в левую ногу. Меня демобилизовали из Эстонского корпуса и поставили заведовать рыбным пунктом. Вояка из меня был уже неважный, но на уединенном островке я пригодился. Тут на рыбном пункте я и увидел Ирму, а потом мы поженились; тут на островке родились Танель и Тийу. А когда двадцать лет назад на Ухте основали колхоз, Хейно Окиратаса выдвинули в председатели. Хейно Окиратаса, сына Лийзи.
Ты усмехаешься, что здесь, в письме, я задел свою старую болячку. Я тоже смеюсь, хотя это место и сейчас еще малость свербит. Тогда-то оно свербило сильно, даром что за спиной у меня остались и старое время и война. Чертовски здорово было мне тогда — меня, а не кого другого, меня, сына Лийзи, выбрали председателем. И сын Лийзи стал доказывать, что он достоин этого имени и чести…
Если эти мои строчки в самом деле дойдут до людей в напечатанном виде, читатель может озлиться и спросить: к чему, мол, такое длинное вступление, когда же начнется сама пиратская история? Минутку терпения! Я сам ведь и был тем пиратом, тем корсаром! Не рассказав о себе, я бы только запутал всю историю.
Мне исполнилось десять, когда мать определила меня пастушонком к Кангру, хозяину из нашей деревни. Я был не ленив, хотел зарабатывать свой хлеб честно, чтобы хозяин не ворчал. Да разве же грешник не поскользнется, особливо когда у него сильное влечение к чему-то…
До школы, семи лет, постиг я грамоту, с этих пор и посейчас книга стала самым большим искушением в моей жизни. У Кангру было много книг, хозяйская дочь училась в гимназии, она порой давала мне книжицу с собой на пастбище. Из гадкого утенка вырастал лебедь с сильными белыми крыльями, а пастушонок, уткнувшийся в книжку, когда его овцы пировали на зеленях Пээтера Круусааука, получал от матери взбучку по наказу хозяина.
Тринадцати лет я работал уже на другом месте. Батраком у Яана Сяйнасте на разных полевых работах. Соседский батрак, когда пахал, не выпускал самокрутки изо рта, говорил, бывало, что негоже жать без сугрева. И это не так уж нравилось хозяину. Меня к табаку никогда не тянуло, ни тогда, ни позднее, но было свое пристрастие и у меня, батрачонка. Пахал я и читал «Принца и нищего»: вожжи на шее, книга в руке, а сам шагаю за плугом. Белолобый смирен, тащится размеренным шагом — борозда и страница, страница и борозда. Когда хозяин увидел, крякнул, а я — книжку за пазуху, под рубаху, поближе к сердцу. Скорее уж принцем, чем нищим, я казался себе, ведь и я, «страшилище» безмужней Лийзи, в мечтах видел себя королевским сыном.
На отмели Сяарепанга был я у старого Юри Тынне батраком, следил за мережами. За год до конфирмации и еще три года спустя. Сяарепанга во время прилива — остров, а при отливе становится полуостровом, куда по узкой двухкилометровой косе можно пройти, не замочив ног. С давних времен стояли тут три хутора — Выркеая, Кивинука и Тынне, — но ни на одном из них не держали петуха и кур. И не столько потому, что по весне морские птицы несли яйца на Сяарепанге почище кур, сколько из-за туманов. Есть двоякого рода туман: один — вроде ваты, глушит голос, а другой — пореже, который далеко разносит эхо. В тумане на мысу отмели Сяарепанги садились на мель корабли. Если бы пел петух и подавал знак, что земля близко, у мужиков с Сяарепанги отпала бы возможность помогать


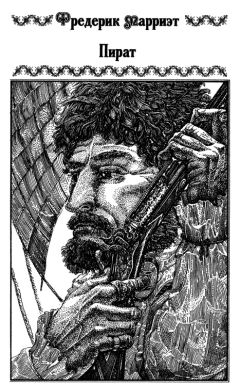
![Кирилл Усанин - Разбуди меня рано [Рассказы, повесть]](https://cdn.my-library.info/books/149349/149349.jpg)

