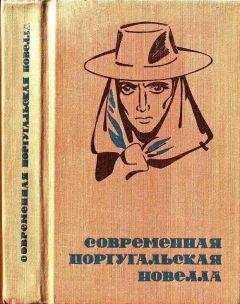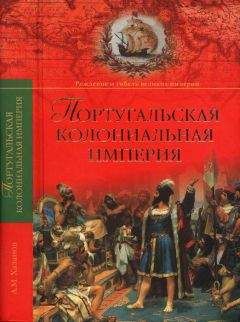Боже, когда наступит это утро! Хозяин говорит, шесть легуа. Ясное дело, тащиться теперь до самой долины Вила-Поука. Не без пользы, правда: вставать спозаранок не понадобится. Вся ночь как раз уйдет на дорогу.
По спине прямо судорога пробежала, как он представил себе, сколько пройдет еще времени, прежде чем покажется солнце и рассеет все это наваждение, которое делало дорогу нескончаемой. Правда, от мысли, что хозяин рядом, стало чуточку легче. Моргадо почти не видел его; дорога была узка, а темень — хоть глаз выколи. Но он знал, что хозяин теперь впереди и, если что, придет на помощь. Да и зачем — помощь? Что может случиться? Споткнется? Это с его-то ногами? Не дотащит мешки? Хоть поел скверно и того хуже спал, разве это груз для него — три мешка с рожью? Нет, конечно. Но мало ли что повстречается на дороге — вот чего он страшится…
А может, пронесет чудом… И он еще перебирал возможные беды, когда слух его пронзил леденящий душу вой.
Дрожь охватила его. Он мгновенно напрягся, покрылся холодным потом, затяжелел, будто камень повис на шее. Всего на миг. И тут же повод упруго натянулся. Это хозяин. И не надо, только не надо падать духом.
Но почему хозяин вдруг пятится и останавливается возле него? Дело дрянь…
И сызнова вой, уже совсем рядом, пронзает ночную темь. Оба, будто связанные одной веревкой, как нечто неразделимое, торопливо, прерывисто дыша, двинулись вперед, во тьму ночи.
Все напрасно! Ни к чему эти старания. Моргадо хорошо знает, ему ли не знать: их преследует по пятам голодная волчья стая, а волки чуют добычу и за сто легуа. Да и вой уж несется со всех сторон, тут надейся только на чудо.
Недаром перед тем, как идти, сердце предвещало ему недоброе. Уже несколько дней мрачные предчувствия теснили грудь… Ужин не полез в горло, одолели воспоминания, чертова эта дорога, и хозяин, странное дело, слова не скажет…
Но тут как раз вырвался из груди хозяина хриплый вопль:
— Пропали мы с тобой, Моргадо! Будь трижды неладна моя судьбина!
Моргадо сразу и не взял в толк, с чего это хозяин кричит. К чему бросается словами, вопит, топочет посередь дороги сапожищами, словно один хочет наделать шуму за тридцать человек? Может, чтобы напугать волков, обмануть их: мол, не одни они — человек да скотина — бредут этой проклятой тропой во власти божьей. Но, коли так, он обманывает себя, это уж точно. Скорее чутьем, нежели зрением, Моргадо уже различал невдалеке сверкавшие голодом волчьи зрачки. Не иначе и хозяин их видит — с чего бы он стал вдруг высекать из кремня искры? Да разве волков испугают те жалкие искорки, что вылетают у него из-под рук?! Если нет у него другого средства, если в кармане у него нет револьвера, каким на ярмарках, когда начинается драка, люди убивают друг друга, то они и впрямь пропали. Спасти их может только один из тех ужасных выстрелов, вроде раскатов грома, какие разгоняют толпу в мгновение ока. Если не это, то что? Он уже различал сквозь потемки три безгласные и оттого еще более страшные волчьи фигуры.
И вот, вместо того чтобы выхватить спасительное оружие, какое способно на расстоянии в тридцать-сорок шагов отправить на тот свет и человека, хозяин шагнул к Моргадо и, даже придержав его, разом обрезал крепившие груз веревки. Мешки с рожью упали на щебень тропы.
Это что за уловка? Может, хозяин решил спастись бегством? Может, он вскочит сейчас на него верхом — только бы вырваться из ущелья? Нет как будто бы. Печальная мысль вдруг явилась ему: хоть ты и был когда-то дюж и способен снести что угодно, не те у тебя сейчас ноги, Моргадо, что в молодости. Не потребует же от него хозяин этого после трехчасового пути по камням, ведь он не спал и почти не ел, да и волки уже наступают на пятки! Ему просто не хватит сил. Вьючный осел — не скаковая лошадь. Это у цыган кони то под седлом, то как тягло. И все-таки пусть хозяин не думает, что Моргадо отказывается. Нет уж. Он бежал изо всех сил и будет бежать, пока жилы не лопнут. Голова идет кругом, к тому же не уверен он, что за здорово живешь волков провести можно.
— Наддай, наддай, Моргадо, волки…
Что он — глух и слеп? Разве не предвидел он этого? Пусть так, он повинуется. Хозяин, освободив Моргадо от груза, вскочил на него верхом, поворотил вспять и пустил во весь опор по тропе к дому.
Увы, стая проделала то же самое. Пять страшных волков бегут с ними рядышком. Эх, хозяин, тебе бы какое-никакое ружьишко! А так — погибель!
Утро все никак не настанет! Копыта нестерпимо ноют, пот градом льет по бокам, ноги как деревянные, а скачке ни конца ни краю не видно. Зари хоть бы краешек!
Они мчались, и ветер все крепчал да крепчал. И даже посвист его отдавался в ушах, как издевка над их бессмысленным бегством.
— Не выдай, Моргадо! Держись, дружище, за ради всего святого!
Невмочь ему больше. Не хочется подводить хозяина да и себя тоже, но если ноги не повинуются… Вот бег все тише. Боже, как он выбивается из сил, чтобы не рухнуть наземь.
— Ублюдок, что мне, погибать из-за тебя?!
Вот до чего он дожил! Сколько хозяин бил его кнутовищем по голове, бокам, по чему попало, а тут еще оскорбил, и как! Все, он выдохся окончательно. Лупи, коли ножом в шею, твори, что хочешь… Он сделал, что смог. А теперь…
— Ты нас погубишь обоих, каналья!
Все это лишнее. Он сделал, что смог…
Один из волков выскочил сбоку на дорогу.
— Эх, пропали мои шестнадцать монет, плакали мои денежки…
Последних слов он не понял. Остановился в изнеможении, тело было как в огне. Голова гудела от ветра и ударов. Поэтому смысл сказанного не сразу дошел до него.
Только через мгновение. Через мгновение, когда человек уже спрыгнул на землю и, враз сдернув сбрую, оставил его, всего в мыле, беззащитного, на съедение зверью… Он спасал свою жизнь ценою его жизни. Ему жаль своих монет!
Наконец-то пришло время рассвету. Моргадо только глянул вслед поспешавшему угорьем с его сбруей хозяину, как ближний из волков уже вцепился ему в загривок, и вокруг в первых лучах все стало обретать истинные очертания и смысл.
АНТОНИО ЖОЗЕ БРАНКИНЬО ДА ФОНЕСКА
Белый волк
Перевод И. Тыняновой
I
Из глубины ночи слышался лай собак. Двое всадников въехали в ворота, и копыта их коней дробно простучали по плитам двора, кое-где уже покрывшимся клочьями снега. На пороге появился слуга с фонарем. Кони стали, выпустив сквозь расширенные ноздри два клуба белого пара, и били копытами землю. Антонио Роке спрыгнул с седла и сказал своему спутнику:
— Почисти их и отведи в малый загон, там теплее. — И добавил, обращаясь к парню с фонарем: — Посвети-ка вон там.
И, повернувшись спиной, он пересек двор и поднялся по гранитной лестнице, где старый Жоаким подымал высоко над головой керосиновую лампу с тремя фитилями.
— Храни вас бог, сеньор Антониньо, добро пожаловать.
— Добрый вечер.
— Как здоровье папаши с мамашей, и сеньоры доны Энрикеты, и сеньора Жозе?
— Все здоровы. Прикажи подать ужин. Я только переоденусь.
— Да вы весь, верно, промокли, весь промокли. Ну и ночка!
— Дай сюда лампу.
И он направился в комнаты — сбросить мокрое платье. Но холод словно застрял в теле. Камин в столовой уже остыл, и он пошел в кухню, куда ходил погреться когда-то в детстве. Кухня, как и все кухни в старых домах провинции Бейра, представляла собою просторное помещение с очагом в глубине, где потрескивало высокое пламя. Вокруг стояли скамьи и табуреты, на которых обычно рассаживались слуги и те, кто любил теплую компанию.
— Добрый вечер.
И все, кто был в кухне, узнав голос хозяйского сына, разом вскочили на ноги. Антонио Роке сел, вытащил щипцами горящий уголек, зажег сигарету и обвел взглядом присутствующих.
— Сядьте.
— С вашего позволения…
Последовала тишина. Слышалось лишь бульканье трех больших железных котлов, укрепленных каждый на своих трех ножках в глубине очага, где кипело варево для свиней и откуда торчали красные стебли свеклы, вылезавшие из-под тяжелых черных крышек. Сучья сосновых поленьев вспыхивали с треском и гасли, как падающие звезды.
— Так какие тут у вас новости?
— Все по-старому…
— Счастливый край.
— Кто знает, сеньор Антониньо)… Может, в других местах еще хуже…
— Работа тяжелая, а заработки плохие…
— Верно говорит.
— Было бы здоровье да ломоть хлеба…
— И то правда. Но вот люди уходят. Помер дядюшка Жоан Фуншо.
— Бедняга. Да он совсем не старый был.
— Зараз кончился, обмер да и упал вниз лицом у самой двери. Уж с месяц тому будет. Жена плакала, жили будто хорошо, да ведь знаете, хозяин, как в песне поется:
Вдовушка-молодушка
не долго унывает,
одним глазочком плачет,
а другим мигает.
Это давильщик рассказывал.