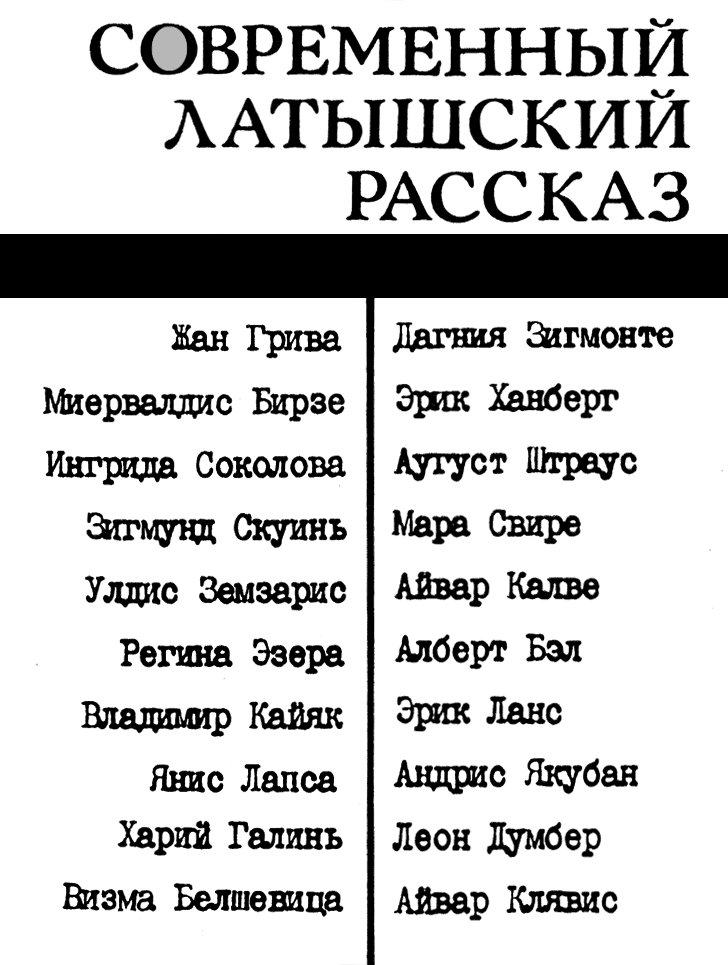а после и по ночам.
— Значит, это началось позже?
— Что?
— Во́роны.
— Да, позже… позже… Когда я увидел, как они кружат над вершинами елей… Нет, сперва услыхал и только потом набрел и увидел его. По шуму крыльев и по карканью — ведь я тогда уже стал плохо видеть… Принес из дома лопату и зарыл. Но это уж было после, доктор, намного позже.
— А в ту ночь? Вы услыхали, как ухает филин, и…
— И больше ничего. Косули не являлись. А должны бы. Ночь была для них самая подходящая. И все ж они не шли. Так мы с Рингольдом прождали в засаде часа два… может, три… Я за елкой. Он за осиной. Недалеко друг от друга. Время давно уж перевалило за полночь. Меня сон одолевает, нет мочи. Сидя я бы, наверное, задремал. Веки слипаются… Но только я заслышал шаги, сон как рукой сняло. И тут на поляну выходит он. Останавливается и стоит в лунном свете. Голова поднята, в нашу сторону смотрит, тянет ноздрями воздух. В дымке, знаете, кажется, будто ноги его не на земле стоят. Он как бы висит в воздухе. Точно призрак. Рога-лопаты мерцают в ночном свете жемчугом… А спина в лунном сиянии как заиндевелая… И когда Рингольд нажал спуск и пальнул, я про себя так и ахнул: что ж ты делаешь?! Он ударил из обоих стволов. Прямо в морду… Мне огонь полыхнул в глаза — до того близко это было. Он рванулся, потом осел на задние ноги, зашатался всем телом. Но нет, не упал… только тряхнул головой вот так… повернулся и скрылся между деревьев… Я видел все это яснее ясного, хотя веки мне точно ожгло, точно песком засыпало… А теперь Рингольд направо и налево говорит, что это вранье и брехня… Когда я видел все до последней мелочи, как вижу вас, доктор, и все вокруг, как… Почему в двери нет ручки? Это тюрьма?! Я ничего плохого не сделал! Я не виноват… я его только закопал!
— Не волнуйтесь, Приверт, это не тюрьма.
— … я не совершил преступления. Никакого злодейства на моей совести нет!
— Я вам верю, Приверт.
— Да? И меня отсюда выпустят?
— Выпустят.
— Да?..
— Обязательно.
— Тогда ладно… Рингольд пугал, что не выпустят… Упрячут и не выпустят. Я его любил… он был мне брат… но он изрешетил мне шею дробью и выбил глаза… Он выпустил заряд мне прямо в морду. И теперь в ранах завелись черви. За две недели. Сколько там надо — в такую теплынь. Мухи садятся и всякая мразь. Ползают, окаянные, грызут живое тело… Тут и здесь… не дают покоя… Вам не видно их, доктор? Все говорят — ничего там нету, а я чувствую — есть.
— Мы вас вылечим, Приверт.
— Правда?
— У нас хорошие лекарства..
— И… воронов пускать сюда не надо!
— Не пустим.
— Они меня со свету сживают, так же как сживали его… смерти его дожидались… но я этого не знал. Чего, думаю, они так гомонят? Чего им в лесу надо? Что ищут? Чего кружат над деревьями?.. Нет, нет, не так дело было. Я его видел и догадался, что это его конца ждут не дождутся черные птицы… Не сумасшедший же я, чтобы этого не почувствовать…
— Так после той ночи вы… на поляне еще раз?..
— Да. То есть не совсем. Видел, и два раза. Можно даже сказать три, но третий пожалуй что не в счет… Сперва я его услыхал, хотя еще не знал, что это он. Вечерами в лесу потрескивать стало то в одной стороне, то в другой. Макс летит на опушку с лаем. Как будто, знаете, вокруг хутора кто-то бродит, кружит и кружит… и кружит… Может быть, он и правда ходил по кругу, а? Может, у него тогда уже ум за разум зашел и он не разбирал, где север, где юг? Может быть, леший манил его именно к моему дому?.. А, доктор? Он же был слепой! Рингольд выбил ему глаза… дробью двухнулевкой… А теперь Рингольд говорит, что знать ничего не знает и я несу какой-то бред! Тогда… Я в жизни не повышал голоса на брата — Рингольд был для меня все равно что бог. Но в тот раз… «Болван! — закричал я, — что ты, олух, наделал?!» Рингольд молчал, потом сказал: какое-то затмение нашло, он и сам не поймет, как палец надавил спуск. Ружье точно само бабахнуло. «Что теперь будет, кретин?» — орал я. Тогда и Рингольд озлился. «Не галди! Ничего не будет, ровно ничего, если ты, сопляк, будешь держать язык за зубами. Забудь то, что сейчас видел, — и ровным счетом ничего не будет. Ни одного свидетеля. Дождемся рассвета. Поищем — возможно, он где-то недалеко свалился. А если нет… Завтра я уеду. И вообще мне кажется, что я не попал…» Но он врал, доктор! Врал без зазрения совести. Рингольд не хуже меня видел, как он под ударом осел на задние ноги… как зашатался всем телом… как мотнул головой, точно силясь стряхнуть боль. С десяти-двенадцати метров промахнуться нельзя. И Рингольд, ясное дело, попал, хоть и не уложил на месте… Да и мыслимо ли уложить двухнулевкой такого гиганта как он! Мы его не нашли. Только кровь на траве. Назавтра Рингольд уехал в Ригу… А вечером он стал блуждать вокруг моего дома. Я его услыхал. Слышал его и Макс. Бегом к лесной опушке, заливается — да грубо так, толсто, как лает охотничий пес, учуяв не мелочь какую-нибудь, а крупного зверя… Я слышал все так ясно, как слышу вас сейчас, доктор… Но тогда я еще не знал, что это он…
— А когда, при каких обстоятельствах вы его увидали, Приверт?
— Дня через три… А может и четыре. Ночью. Вышел я по нужде. Макс был заперт и не лаял. В небе полная луна. Тишь такая — ни один лист не шелохнется. Тут я его и увидел! Он вышел со стороны сада. Я сразу узнал, что это он. Ветвистые рога в ночном свете мерцают искристо. Спина отливает серебром. Повернув морду в мою строну, он стоял в лунном свете как статуя. Так продолжалось несколько минут. Может и дольше, теперь не помню. Потом наставил уши и потянул воздух. Медленно повернулся и… Но как он двигался… бог ты мой, он шел как пьяный. Казалось, ему никак не одолеть тех метров двадцати до чащи — рухнет и… Но нет, не рухнул, одолел и тут же