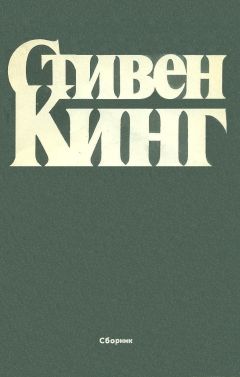Как только она подготовила свои легкие, чтобы пронзительно закричать, труп переключил рукоятку и произнес хриплым пустым голосом: «Ваш этаж, мадам». Дверь открылась, чтобы она увидела языки пламени, базальтовые плато и ощутила зловоние серы. Лифтер привез ее в ад.
В другом сне, она была на спортивной площадке, время шло к концу полудня. Свет был необычайно золотым, хотя небо покрывали черные грозовые тучи. Дальше на западе, между двумя острыми, как зубья пилы, вершинами виднелась колеблющаяся пленка ливней. Это было похоже на Брюгхель, одновременно солнечный свет и низкое давление. Вдруг она что-то почувствовала рядом с собой. Что-то в живой изгороди. Леденея от ужаса, она развернулась, чтобы увидеть, что это изгородь: звери, в форме которых были подстрижены кусты, оставили свои места и крались к ней, львы, буйвол, и даже кролик, всегда казавшийся таким смешным и дружелюбным. Их жуткие ветвистые морды были направлены к ней пока они медленно передвигались к спортивной площадке на своих ветвистых лапах, зеленых, бесшумных и смертельно опасных под черными грозовыми тучами.
Во сне, от которого она только что очнулась, отель горел. Она проснулась в их комнате и обнаружила, что Билл ушел, а по комнате медленно расстилается дым. Лотти выбежала в своей ночной рубашке, но потерялась в узких укутанных дымом коридорах. Со всех дверей куда-то исчезли номера, и не было возможности определить, бежишь ли ты к лестнице и лифту или в другую сторону. Она завернула за угол и увидела Билла, стоящего на карнизе, он указывал рукой на что-то за окном. Каким-то образом она пробежала весь путь к саду за отелем; он стоял там, на пожарной лестнице. Она уже чувствовала, как жар касается ее спины сквозь тонкую, прозрачную ткань ночной рубашки. «Должно быть, пламя где-то позади меня, — подумала она. — Возможно, паровой котел. Нужно не спускать с него глаз, потому что, если этого не делать, огонь (она) подкрадется к тебе незаметно». Лотти шагнула вперед, как вдруг, что-то, похожее на питона, обхватило ее руку и удержало на месте. Она увидела, что был пожарный шланг, один из тех, что висели в коридоре, белый брезентовый шланг в ярко-красной рамке. Каким-то образом он ожил и теперь скручивался и обматывался вокруг нее; вот он стягивает ей ногу, вот вторую руку. Она оказалась связанной очень быстро, становилось все жарче и жарче. Лотти уже совсем близко могла слышать яростное потрескивание пламени. Обои начали отставать и покрываться волдырями. Билл ушел по пожарной лестнице. И теперь, она…
Она проснулась на большой двуспальной кровати, никакого запаха дыма, Билл Пиллсбэри спал сном заслуженной глупости рядом с ней. Она вспотела, и, если бы не было так поздно, она бы приняла душ. Было пятнадцать минут четвертого.
Доктор Верекер рекомендовал ей принимать снотворное, но Лотти отказалась. Она не доверяла всем средствам, которые нужно принимать телу для усыпления сознания. Это все равно, что добровольно отказаться от управления своим кораблем, и она поклялась себе никогда этого не делать.
Но что же ей делать следующие четыре дня? Хорошо, доктор Верекер по утрам играет в шаффлборд со своей никелеглазой женой. Возможно, она его навестит и попросит, в конце концов, рецепт.
Лотти посмотрела над собой на белый высокий потолок, призрачно мерцающий, и опять призналась себе, что «Оверлук» был очень большой ошибкой. Ни одна из реклам «Оверулка» в газетах «Нью-Йоркер» или «Амеркиан Меркури» не говорила о том, что отель действительно своеобразный, и, кажется, делает с людьми какие-то странные вещи. Еще четыре дня, это слишком. Это было ошибкой, хорошо, но той ошибкой, которую она никогда не признает; или все-таки следует? На самом деле, она была уверена, что могла бы.
Нужно не спускать глаз с парового котла, потому что, если этого не делать, она подкрадется к тебе незаметно. В любом случае, что это значило? Или это была одна из тех бессмысленных вещей, которые иногда появляются во снах, таких непонятных? Конечно, здесь без сомнения есть паровой котел в подвале, или где-то еще, чтобы обогревать отель; даже летним курортам иногда нужны обогреватели, ведь так? Даже просто для подачи горячей воды. Но красться? Разве может паровой котел красться?
Нужно не спускать глаз с парового котла.
Это похоже на одну из этих бредовых загадок: Почему бежит мышь; когда ворон похож на письменный стол; что такое крадущийся паровой котел? Может это как с живой изгородью? Ей снился сон, в котором изгородь кралась. И пожарный шлаг, который — что? — что? — полз?
Ее пробрал озноб. Не надо думать о снах ночью, в темноте. Это причиняет… беспокойство. Лучше думать о вещах, которые будешь делать, когда вернешься в Нью-Йорк, о том, как убедить Билла, что ребенок это плохая идея сейчас, пока он не обосновался надежно на месте вице-президента, этот пост был свадебным подарком его отца…
Он подкрадется к тебе.
…И как его убедить приносить работу домой, чтобы он свыкся с мыслью, что она собирается быть вовлеченной в нее, очень сильно вовлеченной.
А может, весь отель крался? Возможно, это и есть ответ?
Я сделаю его хорошей женой, зло подумала Лотти. Мы будем работать вместе, так же как мы работаем партнерами по бриджу. Он знает правила игры и знает достаточно, чтобы позволить мне управлять им. Это будет как бридж, именно так, и то, что мы здесь проигрывали, ничего не значит, это всего лишь отель, и сны…
И подтверждающий голос: Так и есть. Весь отель. Он… крадется.
«О, черт!», — прошептала Лотти Килгаллон в темноте. Ее напугало осознание того, как сильно расшатаны ее нервы. Как и в другие ночи, она уже не сможет уснуть. Она будет лежать здесь, в кровати, пока солнце не начнет подниматься и тогда, на час, или около того, забудется в тревожном сне.
Курение в постели — это плохая, ужасная привычка, но Лотти стала оставлять сигареты в пепельнице на полу рядом с кроватью, на случай плохого сна. Иногда это ее успокаивало. Она протянула руку, чтобы взять пепельницу и ей в голову внезапно пришла мысль, как открытие: он крадется, весь отель, — как будто он живой!
И в тот же момент рука, которая незаметно появилась из-под кровати крепко, …почти похотливо схватила ее за запястье. Пальцевидный брезент непристойно царапал ее ладонь, и она поняла, и там что-то было, все время там что-то было, Лотти начала кричать. Она кричала, пока ее горло не заболело и охрипло, глаза вылезали из орбит, Билл проснулся и, мертвенно-бледный, с ужасом смотрел на нее.
Когда он включил лампу, она спрыгнула с кровати и, забившись в дальний угол комнаты, свернулась клубком, засунув в рот большой палец.
И Билл, и доктор Верекер пытались понять, что случилось, она им рассказывала, но из-за того, что большой палец был еще у нее во рту, прошло некоторое время, перед тем как они поняли, что она говорит: «Оно крадется под кроватью. Оно крадется под кроватью».
И не смотря на то, что они сбросили одеяло, а Билл фактически поднял кровать с пола, чтобы показать ей, что там ничего нет, даже мусора и комков пыли, она оставалась в углу. Когда взошло солнце, она, наконец, покинула угол и вынула палец изо рта, но держалась подальше от кровати. Ее белое лицо, как грим клоуна, было обращено к Биллу Пиллсбэри.
— Мы возвращаемся в Нью-Йорк, — сказала она. — Этим утром.
— Конечно, — пробормотал Билл. — Конечно, дорогая.
Отец Билла Пиллсбэри умер через две неделю после того, как упал рынок акций. Билл и Лотти не смогли удержать компанию на плаву, и дело рухнуло. Дела шли плохо, и стали идти еще хуже. В последующие годы она часто думала об их медовом месяце, проведенном в отеле «Оверлук», о снах и о руке, которая прокралась из-под кровати, чтобы сжать ее руку. Она думала об этих вещах все чаще и чаще. Лотти покончила жизнь самоубийством в одной из комнат мотеля в Йонкерсе, в 1949 году, женщина, слишком рано поседевшая и постаревшая. Прошло уже 20 лет, но рука, схватившая ее запястье, когда она потянулась за сигаретами, так ее никогда и не отпустила. В предсмертной записке, оставленной на гостиничной бумаге, было всего одно предложение. Этим предложением было: «Жаль, что мы не поехали в Рим».
А ТЕПЕРЬ ЭТО СЛОВО ИЗ НЬЮ-ГЕМПШИРАЭтим долгим, жарким летом, летом 1953 года, летом, когда Джеки Торрэнсу исполнилось 6 лет, однажды вечером, вернувшись из больницы, отец сломал ему руку. Он едва не убил мальчика. Он был пьян.
Когда его отец появился на улице, шатаясь, заправленный пивом где-то по дороге, Джеки сидел у парадного входа и читал комиксы «Комбат Кейси». У мальчика в груди появилось привычное чувство, состоящее из смеси любви, ненависти и страха при взгляде на своего старика, похожего на огромного, злорадного призрака в своем белом медицинском халате. Отец Джеки был уборщиком в общественной больнице Берлина. Он был как Бог, как Природа — иногда дружелюбный, иногда жестокий. И никак нельзя было узнать, каким он будет сейчас. Мать Джеки боялась его и слушалась во всем. Братья Джеки ненавидели его. И только один Джеки все еще любил его, несмотря на страх и ненависть, а иногда и неуловимую смесь чувств, когда хотелось кричать при виде возвращающегося отца, просто кричать: «Я люблю тебя, папа! Уходи! Обними меня! Я тебя убью! Я тебя очень боюсь! Ты мне нужен!» И казалось, что отец иногда чувствовал, по-своему примитивно — он был глупым и эгоистичным человеком, что все отвергли его, кроме Джеки, самого младшего; он знал, что единственным способом взволновать других можно была дубинка. Но, по-отношению к Джеки, еще была любовь. И бывали времена, когда он слегка ударял мальчика, так что у него начинала идти кровь изо рта, а затем обнимал его страшной силой, убивающий силой, едва ли сдерживаемой чем-либо. И мальчик готов был остаться в этих объятиях, в этой атмосфере хмеля и солода, витавшей вокруг его старика, навсегда, дрожа, любя и боясь.