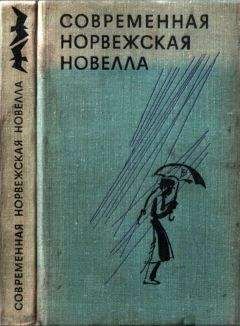— Вот именно, черт побери!
Темные глаза Хенриксена сверкали, он долбил пятками снег, не отрывая глаз от длинного ряда столбов, а мысли его по невидимым проводам летели вдаль, неслись над разрушенными дорогами, над руинами и толпами бездомных, несчастных людей, над сгоревшими городами и деревнями, над концлагерями и запретными зонами. Юллус мог бы сказать и об этом. Настанет день, и вокруг всего земного шара вновь запоют провода и все люди будут приветствовать друг друга, как старые знакомые.
Маленький сухощавый Торсен глубоко вздохнул; согнувшись над костром, словно нахохлившаяся птица, он грел натруженные, посиневшие от холода руки.
— Все во власти высшей силы… — сказал он.
Его тонкие губы шевелились, как будто он бормотал молитву, на бледном лице не было и намека на бороду, хотя Торсен был далеко не молод. В его глазах появилось какое-то теплое выражение, которого товарищи никогда прежде не замечали.
Длинный Крестиан, светловолосый великан, поднялся, хохотнул, расправляя свое гигантское тело, потом сказал низким и спокойным голосом:
— Кто-то в этом мире должен тянуть провода, а тот, кому больше делать нечего, пусть полагается на господа бога…
Помолчали. Торсен промычал что-то себе под нос; искры осветили его лицо, когда он подливал себе кофе. Потом он отставил кружку и взмахнул над огнем руками, словно разорвал красный занавес. Голос его прозвучал ненавязчиво, словно он читал вслух.
— Даже воробей на землю не упадет, коли не будет на то воли божьей, — произнес он. — А люди все-таки больше, чем воробьи. Ведь верно же?
Спросил, и все.
Лицо черного лохматого человека с дерзкими горящими глазами, одетого в грязную меховую куртку, побагровело. Маркус как гроза налетел на Торсена:
— Значит, это по воле божьей матросы с подлодки изнасиловали мою жену в моем же доме на глазах у детей, а после и дом сожгли? Выходит, так?
На мгновение все затаили дыхание. Потом кто-то очень тихо сказал:
— Опять…
И в ту же минуту голос Торсена прорезал мерцающие от мороза сумерки:
— Наказание за грехи…
— За грехи… в пять-то лет… младшему было всего пять… Он стоял и смотрел, что они с ней делают, как они сорвали с нее кофту и… и…
Наверное, Маркус рассказывал это уже много раз. Много-много раз. Брови сошлись в густую черную линию, глаза бегали.
— Тьфу! — сказал он, отер рот и махнул рукой. — Катись к чертовой матери со своим наказанием! — буркнул он и тяжело зашагал прочь по холму, расстегивая ремень.
Юллус сидел неподвижно и следил за ним, потом взгляд его остановился на большом безжизненном плоскогорье, где черные, обожженные обломки столбов торчали из снега, как застывшие привидения; длинной шеренгой растянулись они по всему восточному склону.
— Верно, только через неделю мы встретимся с той бригадой, — невозмутимо сказал он, сдвинул меховую шапку на глаза и почесал затылок.
Педер Евнинген посмотрел в том же направлении и рассеянно кивнул.
— Еще слава богу, что немцы ленивы и не пожелали гнуть спину, когда валили столбы. — Он ткнул указательным пальцем. — Осталось хоть, что чинить. — Он добродушно заржал и снова принялся за еду.
Стало темнеть, но столбы были еще видны. При каждом порыве ветра угли потрескивали и искры взметались вверх, как сверкающие насекомые. Юллус выбил трубку и поднялся.
— Давайте-ка еще поработаем, ребята, ждать помощи от высших сил нам не приходится, хе-хе!
Рабочие засмеялись, разом поднялись и снова зашагали на свои места, проваливаясь по пояс в снег. Палатку было еще хорошо видно: если ясная погода продержится, ночью, возможно, будет луна.
Одинокий золотой гвоздик продырявил высокое вечернее небо: медленно выплыла Полярная звезда…
Они преодолели плоскогорье и спустились к закрытой ложбине, где вдоль реки гнулись на ветру чахлые березки. Снег стал тверже, но все-таки время от времени лыжи проваливались.
После сурового, безжизненного плоскогорья вид речной долины, поросшей кустами и мелколесьем, так подействовал на людей, что они остановились как вкопанные и долго смотрели по сторонам. Узкий перевал вел к невысоким круглым вершинам, вдали на юге можно было разглядеть Ладнатьярве, длинное озеро лежало среди белых склонов в кайме березок и рябин. Незамерзающая быстрина реки тянулась на запад, точно сверкающий просмоленный канат.
Лопарь Равдола хрюкнул от удовольствия и прищурил глаза, длинные лыжные палки впились ему в подмышки. Неплохо спуститься вниз, в защищенные от ветра долины. Вдруг он замер, заслонив глаза ладонью, на переносице появилась глубокая морщина.
— Смотрите! — Он снова хрюкнул и поднял палку. — Туда смотрите!
Они посмотрели в том направлении, куда он указывал, но ничего не увидели. Их глаза не имели такой привычки к горам, как глаза Равдолы, с годами зрение Равдолы еще обострилось, и он отлично знал здесь каждую вершину и каждый перевал. Остальным потребовалось несколько минут, чтобы разглядеть крохотные точки, которые двигались по берегу реки вдоль узкой полоски льда. Сюда наверх шла оленья упряжка цугом — кажется, в ней было трое саней. Равдола черкнул лыжами по насту и помчался вниз, точно ветер, над его черными волосами колыхалась съехавшая набекрень лопарская шапка.
— Ну, дает наш Равдола! — засмеялся Маркус и снова начал тянуть провод.
Теперь рабочие тянули провод вниз, к перевалу. Торсен закреплял несущий трос в точках подвеса. Юллус стоял наготове. На склоне, выше их, стоял Длинный Крестиан и ждал сигнала.
— Тяни!
Крик рывками перебегал от человека к человеку — линия продвигалась вперед. Она должна была двигаться вперед. Все время вперед.
Бригада проработала почти целый час, пока упряжка приблизилась настолько, что они отчетливо услышали колокольчики на оленях. Только Юллус отстегнул кошки, как увидел, что от упряжки к ним поднимаются несколько человек из другой бригады. Он понял это, услыхав их разговор. Они говорили на южном диалекте. Вскоре он хорошо разглядел их, рабочих сопровождали два оленевода — проводник и подросток.
— Неужто они уже домой? — удивился Юллус.
— Домой! — заржал Педер Евнинген. — Этот дом еще надо построить, а то придется им ставить палатку, как и нам.
Один из вновь прибывших что-то крикнул, но слов было не разобрать: ветер дул в противоположную сторону. Равдола поднялся к своим, лоб у него блестел от пота, изо рта валил пар.
— Оуле подорвался на мине, — тихо сказал он.
— Уле?
Все с испугом взглянули на Равдолу и начали спускаться к упряжке, потом побежали.
На последних санях лежал человек, завернутый в тряпье и шкуры, это был Уле, старый линейный рабочий, ветеран гор, самый надежный товарищ. Один глаз Уле был закрыт, как будто он спал, другой был завязан красным от крови шарфом. Уле везли к врачу.
Рабочие сгрудились вокруг саней и тихонько переговаривались, взгляд всех был прикован к бледному лицу на санях. Голова раненого покоилась на охапке березовых веток. Он застонал и повернул голову, тело его уже горело в лихорадке, он все время бредил. Взрыв повредил Уле обе ноги.
Ветер пел в проводах тихую жалобу, олени встряхивались и били копытами снег, на шеях у них позвякивали хомуты.
А рабочие все стояли и беспомощно переглядывались, напуганные случившимся. Наконец Уле открыл глаз, живой, блестящий, этот глаз смотрел прямо на них, потом скользнул с человека на человека, как будто Уле увидел или нашел что-то вдали, за высокими вершинами. Вдруг Уле встряхнул головой и прислушался.
— Послушайте, — тихо сказал он. — Опять гудят провода над Соловоми.
Товарищи с трудом разобрали его слова.
Юллус наклонился к нему.
— Скоро связь будет налажена, — сказал он. — На западном склоне уже все в порядке, остался только восточный…
Рабочие молча измерили взглядом ряды столбов, а потом повернулись и медленно стали подниматься наверх, держась поближе друг к другу.
В парке
Перевод Ю. Яхниной
Жили в большом городе одна-единственная девушка и один-единственный юноша. Их райским садом был громадный парк на городской окраине, и здесь по четвергам в пять часов пополудни юный Франческо встречался со своей Лаурой. Они говорили только о любви и поминутно целовались, но встречи свои держали в тайне от всех. Она была почти принцесса, а он беден как церковная крыса, однако они уже порешили, что вдвоем приведут свою ладью к счастливому берегу, но, впрочем, сошлись и на том, что ладью эту совсем не худо заблаговременно оснастить земными благами.
Расставшись с юношей около половины седьмого, девушка выходила из парка и садилась в трамвай, который шел в северную часть города, юноша чуть позже садился в трамвай, который шел в южную часть города, но иногда он предпочитал добираться до дому пешком, и тогда компанию ему составляли грустные раздумья. По правде говоря, у него иной раз просто не было денег на трамвайный билет.