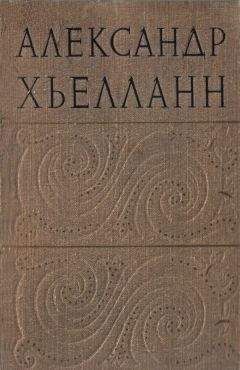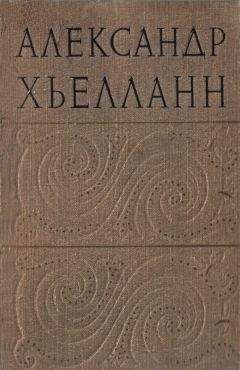Наконец начались сборы в обратный путь. Гости и хозяева сердечно прощались. Когда упаковка вещей уже заканчивалась и в поднявшейся сутолоке каждый искал свое прежнее место в коляске или хотел найти новое, Ребекка тихонько вошла в дом, прошла через сад и поднялась на холм Конгсхоуген. Здесь она села в укромном месте под деревьями среди цветущих фиалок и попробовала собраться с мыслями.
— А фиалки? Господин Линтцов! — воскликнула фрекен Фредерика, уже сидя в экипаже.
Молодой человек, уже некоторое время усердно разыскивавший дочь хозяина дома, рассеянно ответил:
— Боюсь, теперь слишком поздно.
Но вдруг его словно осенила внезапная мысль.
— Фру Хартвиг, вы извините меня, если я убегу на десять, минут, чтобы принести букетик цветов фрекен Фредерике?
Ребекка услышала быстрые шаги, приближавшиеся к ней. У нее мелькнула мысль, что это может быть только он, он один.
— О, фрекен, вы здесь! Я пришел за фиалками.
Она полуотвернулась от него и стала рвать цветы.
— Вы их срываете для меня? — спросил он неуверенно.
— А разве это не для фрекен Фредерики?
— О нет! Пусть это будет для меня, — попросил он, опустившись на колени рядом с ней.
Голос его снова зазвучал так жалобно, как у ребенка, который просит о чем-то.
Она, не глядя, протянула ему фиалки. Он крепко обнял ее за талию и прижал к себе. Она не сопротивлялась, но только закрыла глаза и тяжело дышала. Она чувствовала, что он целует ее — раз, другой, много раз — в глаза, в губы. И между поцелуями он называл ее по имени и говорил что-то бессвязное и снова целовал ее. Из сада его позвали. Он отпустил ее и бегом спустился с холма. Лошади били копытами. Молодой человек быстро вскочил в коляску, и она покатилась по дороге. А в ту минуту, когда он открывал дверцу экипажа, он был так неловок, что уронил букетик. Лишь одна-единственная фиалка осталась у него в руках.
— Пожалуй, бесполезно предлагать вам эту одну, фрекен? — сказал он.
— О да, благодарю! Сохраните ее на память о вашей исключительной ловкости, — ответила фрекен Хартвиг. Она была очень немилостива.
— Вы правы, я так и сделаю, — ответил спокойно Макс Линтцов.
Когда он на следующее утро после бала надевал свой будничный сюртук, он нашел в петлице увядшую фиалку. Он оторвал головку цветка и выдернул стебелек с обратной стороны лацкана.
— Да, верно… — сказал он, глядя с улыбкой в зеркало. — О ней я уже почти совсем позабыл.
Вечером он уехал и забыл о ней совершенно.
Наступило лето. Стояли жаркие дни и долгие светлые ночи. Над спокойным морем дым проходивших мимо пароходов тянулся темными полосами. Шхуны проплывали с вяло повисшими парусами, не исчезая из виду чуть ли не в течение целого дня.
Пастор не сразу заметил перемену в настроении дочери. Но постепенно ему стало ясно, что этим летом с Ребеккой творилось что-то неладное. Она побледнела и подолгу оставалась одна у себя в комнате. К нему она почти никогда не заходила, и, наконец, ему стало казаться, что она избегает его.
Тогда он повел с ней серьезный разговор. Он просил ее сказать, не больна ли она, или, может быть, ее тяготят грустные размышления.
Но Ребекка только плакала и почти ничего не отвечала.
Все же этот разговор помог немного. Она теперь меньше стремилась оставаться одной и чаще бывала с отцом. Но голос ее был не так звонок, как прежде, и глаза не смотрели так открыто.
Пришел доктор и стал задавать ей вопросы. Она сильно покраснела и в конце концов разрыдалась, — да так бурно, что старый доктор оставил ее и спустился в комнату пастора.
— Ну, доктор, что же с Ребеккой?
— Скажите-ка, господин пастор, — начал осторожно доктор. — Не было ли у вашей дочери сильного душевного волнения… гм!.. Какого-либо…
— Потрясения, думаете вы?
— Нет, не совсем так. Не было ли у нее какой-нибудь сердечной печали? Или, говоря напрямик, — любовной печали?
Пастор готов был обидеться. Неужели доктор мог подумать, что его Ребекка, сердце которой было для него открытой книгой, что она могла бы или хотела бы скрыть горе такого рода от своего отца. Да и, кроме того, Ребекка, конечно, была не из числа тех молодых девушек, головы которых полны романтических любовных грез. И она никогда не расставалась с ним, а как же… «Нет, дорогой доктор! Этот диагноз не принесет вам славы», — заключил пастор, спокойно улыбаясь.
— Что ж, хорошо! — сказал старый доктор и выписал рецепт, который во всяком случае не мог повредить. Он все равно не знал никакого зелья против любовной тоски. Но в глубине души он не сомневался в своем диагнозе.
Визит доктора испугал Ребекку. Она стала еще больше следить за собой и удвоила свои усилия казаться такой же, какой была раньше. Ведь никто не должен был знать о случившемся; о том, что совершенно незнакомый молодой человек держал ее в своих объятиях и целовал ее.
Стоило ей вспомнить об этом, и лицо ее заливала краска. Она умывалась по десять раз в день, но напрасно — чувство чистоты не появлялось.
И что тогда вообще произошло? Не было ли это величайшим позором? Возможно, она теперь не лучше многих несчастных девушек, прегрешение которых приводило ее в содрогание и казалось чем-то непонятным. Ах, если бы она могла спросить у кого-нибудь! Если бы она могла сбросить со своих плеч груз сомнений и неведения, мучивший ее, ясно узнать, как велика ее вина, имеет ли она еще право смотреть своему отцу в глаза или стала величайшей грешницей.
Отец часто спрашивал ее, не может ли она открыть ему, что ее гнетет. Он чувствовал, что их разделила какая-то тайна. Но когда она смотрела в его ясные глаза, в его чистое, светлое лицо, ей казалось невозможным, совершенно невозможным коснуться ужасного, греховного вопроса, — и она только рыдала. Иногда она вспоминала прикосновение мягкой руки фру Хартвиг. Но ведь фру Хартвиг была посторонним человеком и жила так далеко от них. Нет, она должна была вести борьбу одна, совсем одна, и вести ее так, чтобы никто ничего не заметил.
А он — странствовавший по жизни с веселым лицом и печальными думами. Увидит ли она его когда-нибудь? И где бы она могла укрыться, если бы встретила его? Мысль о нем срослась неразрывно с ее сомнениями и болью, но она не испытывала ни горечи, ни ожесточения. Страдания еще крепче привязывали ее к нему, и он всегда присутствовал в ее душе.
Свои повседневные хозяйственные обязанности Ребекка по-прежнему исполняла старательно и усердно. И что бы она ни делала, к этому примешивались, словно мелкие искорки, воспоминания о нем. О нем напоминало бесконечное множество мест в доме и саду. Она встречала его в дверях, где он стоял, когда первый раз заговорил с нею. А на Конгсхоугене — с тех пор она там и не бывала — он обнял ее и стал целовать.
Пастор с тревогой наблюдал за своей дочерью. Но всякий раз, как он вспоминал слова доктора, он недовольно покачивал головой. Он ведь никак не мог предположить, что привычная рука с помощью старых, банальных приемов могла так легко сломать то славное оружие, которым он снабдил свою Ребекку.
Если весна запоздала, то осень зато наступила рано.
Однажды теплым летним вечером полил дождь. Он шел также весь следующий день и с тех пор не прекращался в течение полных одиннадцати дней и ночей, становясь все холоднее и холоднее. Наконец небо прояснилось, но на следующую ночь было четыре градуса мороза.
Листья на кустах и деревьях слиплись от продолжительного дождя, а когда мороз по-своему подсушил их, они начали грудами валиться на землю, стоило только ветру слегка их пошевелить.
Арендатор пастора был в числе немногих, успевших убрать хлеб. Теперь надо было поспешить с обмолотом, пока еще не стала речка. Она бежала, пенясь, внизу в долине, бурая, как кофе, и все люди в усадьбе пастора были заняты у молотилки или перевозили зерно и солому.
На дворе повсюду лежала солома, и ветер, пролетая над домами, хватал соломинки овса, приподнимал их и заставлял плясать, подобно желтым призракам. Это пробовал силы молодой осенний ветер. Лишь зимой, когда легкие у ветра разовьются, он затевает игру с черепицей и печными трубами.
Воробей сидел, нахохлившись, на собачьей конуре. Он втянул головку в плечи, моргал глазами и делал вид, будто происходящее на дворе его не касается. А на самом деле он примечал, куда кладут зерно. Весной он сидел в большом воробьином выводке в середине гнезда, и его больше всех щипали и клевали. Но с тех пор он вырос и поумнел. Он думал о жене и детях и о том, как хорошо иметь запасец на зиму.
Ансгариус радовался наступающей зиме, опасным экспедициям среди снежных сугробов и грохоту прибоя в непроглядно-черные вечера. Он уже поспешил воспользоваться льдом, покрывавшим лужи после ночного морозца, чтобы повести по нему всех своих оловянных солдатиков вместе с двумя латунными пушками. Сам он, взобравшись на перевернутую вверх дном кадку, наблюдал, как лед мало-помалу подавался, пока, наконец, вся армия не провалилась в воду и над поверхностью не остались торчать одни лишь колеса пушек. Тогда он закричал: «Ура!» и стал размахивать шапкой.