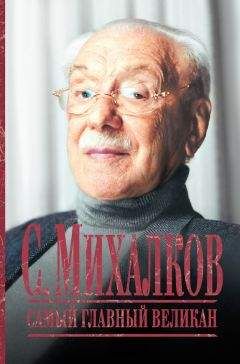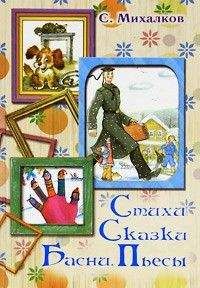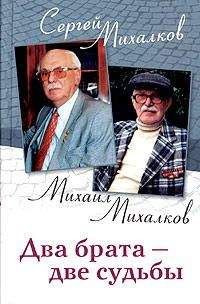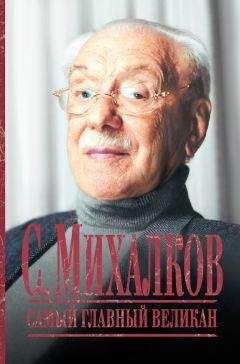H. М. Очень трудно говорить о Михалкове… мне. Очень трудно говорить об отце. Трудно и легко одновременно. Трудно потому, что его много раз снимали, и я очень не хотел, чтобы это превратилось в те же рассказы и в те же вопросы относительно гимна, относительно общественной деятельности и того, другого, пятого, десятого, что практически, в общем, известно всем. С другой стороны, мне самому, в общем, хотелось поговорить с отцом. Ведь, как говорится в русской пословице: «Что имеем, не храним, потерявши – плачем». И времени задуматься о том, а кто ж такой этот твой папа, кто он, – возможности такой практически нет.
Удивительно, и это действительно удивительно – его не знали, и до сих пор мы его не знаем. Я поймал себя на мысли, что я не знаю моего отца, – я его чувствую, люблю, но до конца не знаю. Хотя, может быть, чувства важнее знания. Скажи мне: дома наказывали, били, пороли?
С. М. Нет, нет.
H. М. Никогда?
С. М. Нет, не пороли.
H. М. А почему ты меня порол тогда?
С. М. А я тебя тоже не порол.
H. М. Как это не порол? Как это не порол? Что это вы тут такое рассказываете, Сергей Владимирович? Вот ваше письмо: «Занят я тут очень с Никитой. С ним вот гораздо труднее, чем с Андреем, – живости непомерной мальчик, драчун и лентяй. За ним нужен все время глаз и глаз. Подрался он с Сашей Егоровым, причем неизвестно еще, кто первый начал. Ну и не стал думать – взял да и выдрал его…» Это я помню на своей, так сказать, попе.
С. М. Ну…
H. М. Нет, я без претензий, я не жалуюсь.
С. М. Да я понимаю… Я этого не помню, во-первых, а во-вторых, таких наказаний, какие описаны вообще у наших классиков, что там раздевали, снимали штаны, драли ремнем до крови… я говорю – этого не было.
H. М. Нет, ну у нас… с нашим классиком это было, с тобой то есть. Ты с меня снял штаны и меня выдрал.
С. М. Да нет, ну это все… это все домашние дела такие…
Он сказал – «домашние дела». Это значит, что он не хочет об этом говорить. Но вот именно об этих-то домашних делах мне и хотелось с ним разговаривать. Но отец не давался. Эта его долгая жизнь на людях, причем на людях разных и в разные времена, научила его создавать некий образ – и детского поэта, и общественного деятеля, лауреата множества премий, автора гимна, руководителя Союза писателей в течение двадцати лет, Героя Социалистического Труда, – и понять, где проходит эта граница между тем Михалковым, которого мы с мамой и братом вместе со всеми наблюдали из зала, когда он стоял на сцене или на трибуне, и тем веселым, смешливым человеком, который писал замечательные, легкие стихи, – понять, где же проходит эта граница, было чрезвычайно трудно. Этот панцирь, который защищал его от внешних сил, за которым он прятал свои эмоции, мысли, чувства – а вернее всего, я так думаю, свой талант, – существовал не только для тех, кто был вне семьи, вне нашего дома, но порой и для нас, для нас для всех. Меня самого удивляло, что я никогда об этом раньше не думал. И тогда я решил спросить у наших детей, его внуков, – может быть, он им приоткрылся больше, чем нам? Может быть, они знают его лучше?
СТЕПАН. Я не могу вспомнить какой-то его со мной серьезный разговор или какой-то его поступок. Он как-то присутствовал всегда, и это давало такое состояние покоя и семьи…
НАДЕЖДА. Действительно, да, когда спрашивают у меня… там… я не знаю… вот твой дедушка написал гимн, а какой он? Я говорю – я не знаю. Говорят: как же ты не знаешь? Почему? Я им говорю: потому что мне кажется, что Дадочку узнать полностью невозможно.
АННА. Очень глубокий человек, очень глубокий… Я думаю, что его по-настоящему не знает никто, по крайней мере из нас, внуков. Мы видим только небольшую часть этого айсберга, и… потому что он никогда не любит рассказывать о себе, всегда говорит, что то, что надо было, я уже, мол, написал.
АРТЕМ. Егор и Степа… нет, особенно Егор – он с дедом очень близок, как никто другой, общается намного ближе, чем я… чем я, и даже, наверное, чем Степан.
ЕГОР. Если о базовых качествах говорить, то у меня такое ощущение, что он всегда был очень честным и достаточно чистым… Вообще мне кажется, что человек с недостаточно чистой душой не сможет писать детские стихи такого качества и такого обаяния. Сколько поколений выросло на его стихах, и сколько их еще будет!
Что за шум? Кого так радостно приветствуют ребята? Это детский писатель Сергей Михалков в гостях у московских школьников.
Я моего отца таким, каким вы видите его в киножурнале «Пионерия», не видел никогда. Но именно таким был его образ для основного населения всего Советского Союза, и он хотел быть именно таким для всех . Молодой любимец детей и вождей, да еще с орденом Ленина – высшей наградой страны на лацкане пиджака, – и это в двадцать-то шесть лет! Я попытался представить себя в двадцать шесть лет с орденом Ленина на груди – не получилось .
H. М. А почему ты получил орден Ленина?
С. М. Ну, я думаю, потому, что мои стихи очень быстро стали популярными, и я не исключаю, что Светлана, дочь Сталина, читала мои стихи, и, наверное, Сталин читал мои стихи, потому что они печатались в «Правде». А когда в «Известиях» было напечатано стихотворение «Светлана», которое не имело отношения к дочери Сталина, а просто я был увлечен студенткой Литературного института, ее звали Светлана, и у меня было набрано «Известиях» стихотворение «Колыбельная», я, встретив ее и желая победить своим вниманием, спросил: «А хочешь, я завтра напечатаю стихи, посвященные тебе?» Но никакой реакции не последовало. Я поехал в редакцию, и стихотворение, которое называлось «Колыбельная», назвал «Светлана». И меня неожиданно пригласили в ЦК партии, на Старую площадь, и руководитель отдела агитации и пропаганды сказал мне, что товарищу Сталину понравились мои стихи «Светлана».
H. М. Скажи, а повлияло это стихотворение на ваши отношения со Светланой, с той, кому ты посвятил?
С. М. Нет, нет, никак.
H. М. Никак?
С. М. Никак.
H. М. То есть она, так сказать, пропустила это мимо.
С. М. Она пропустила мимо, никак не реагировала на публикацию эту, так что… это была судьба. Вообще я очень верю судьбе – и на войне, где я был пять лет и благодаря судьбе не попал в плен, благодаря судьбе я остался жив и не был убит, и не был ранен, а только контужен. Судьба у меня была очень удачная, потому что даже в трудные моменты жизни судьба исправляла как-то мой жизненный путь и спасала меня от всяких неприятностей.
H. М. А почему ты говоришь «судьба» и не говоришь «Бог»?
С. М. А потому что все от Бога – и судьба от Бога.
Одним из удивительнейших качеств Сергея Михалкова была его легкость. Легкость, защищенная талантом, то есть легкость, которую можно было себе позволить, только ощущая, может быть, даже подсознательно ощущая, огромный потенциал своих творческих возможностей. И потому он с равной степенью легкомысленности порою общался и с премьерами, и с дедушкой Калининым, и с другими партийными бонзами того времени, по-моему, даже не понимая разницы между ними. Ну кто мог еще написать такие летящие строки:
Я хожу по городу,
длинный и худой,
неуравновешенный,
очень молодой.
Ростом удивленные,
среди бела дня
мальчики и девочки
смотрят на меня.
На трамвайных поручнях
граждане висят.
«Мясо», «Рыба», «Овощи» —
вывески гласят.
Я вхожу в кондитерскую,
выбиваю чек.
Мне дает пирожное
белый человек.
Я беру пирожное
и гляжу на крем,
на глазах у публики
с аппетитом ем.
Ем и грустно думаю:
через тридцать лет
покупать пирожное
буду или нет?
Повезут по городу
очень длинный гроб
Люди роста среднего
скажут: он усоп.
Он среди покойников
вынужден лежать,
он лишен возможности
воздухом дышать.
Пользоваться транспортом
надевать пальто,
книжки перечитывать
Агнии Барто.
Собственные опусы
где-то издавать,
в урны и плевательницы
вежливо плевать.
Посещать Чуковского,
автора поэм,
с дочкой Кончаловского,
нравящейся всем.
Я прошу товарищей
среди бела дня
с большим уважением
хоронить меня.
Это стихи написаны человеком летящим, летящим и совсем не похожим на того Сергея Владимировича Михалкова, лауреата, депутата, председателя, правительственного, так сказать, чиновника от литературы – и так далее и так далее. И как можно было соединить в себе и эти стихи, которые практически никогда не кончались по духу, и вот эту общественную и общественно-значимую работу …
С. М. Я общественную работу люблю, любил и буду любить. Я отдал много сил Содружеству писательских союзов, национальной литературе, я был во всех республиках.
H. М. Но ты бы мог в это время писать свои стихи, пьесы, басни…
C. M. Я мог бы писать свои стихи, но я понимал, что надо поднимать национальную литературу, что надо уважать… Надо поднимать ее авторитет у читателей, в обществе, и я это делал двадцать лет подряд. И делаю это сегодня.