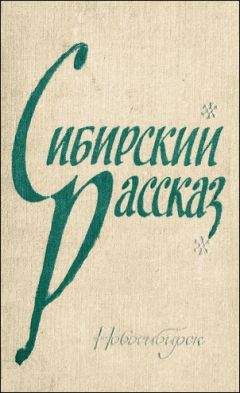Нинель Бейлина
Думать — не думать
У моря пахло нежилым, непривычным. Не хвоей, не дымом, не молоком, не багульником, не соляркой, даже не ночным чистым воздухом, каким ей дышится после работы, когда Надюшка одна катит домой на велосипеде под мерцающими звездами.
Она не умела разложить этот новый запах на части, но главенствовало в нем при солнце присутствие самого моря, а вечером, все забивали белые цветы, которые почему-то распускались не в траве, а на деревьях с негибкими вощеными листьями.
Руки были не заняты, и Надюшка чувствовала себя неприкаянной. А морские твари медузы и вовсе вгоняли ее в тоску. Непонятно ей было, почему — безглазые, безухие, безногие — они все-таки живут, что нужно им от жизни и какое им в жизни удовольствие. Когда она видела, как они трепыхаются в шипящем прибрежном песке, то ли уже мертвые, то ли еще умирающие, ей хотелось вскочить и бегом на вокзал — домой, домой, в Падолгу. Вспоминала нежное дыхание коров, вспоминала Дезку, прижившуюся на ферме дворнягу, глаза Дезкины — почти человечьи, золотисто-пивного цвета, с огоньком одержимости. Зарывалась носом в песок, звала: «Дезка, Дезинька, подь сюда, человеческая ты моя собака».
Но удивительней всего было то, что Надюшка теперь непрерывно думала — и сама замечала это. Наверное, она и раньше думала, но не успевала остановиться ни на одной мысли — всегда суетилась, слишком много двигала руками. Да и попробуй сложить руки, если все умеешь. Везет же неумехам. Скажут такому: сшей платье — «Не умею». Сложи печь — «Не умею». Посчитай на счетах, напечатай на машинке, побели, поймай рой, прими теленка у коровы — «Не умею». И ведь не врет, в самом деле не умеет, и взять с него нечего. А она и отмахивается, и отнекивается, а накричат, нажмут или — что всего сильнее — упросят, она и согласится, и сделает. И не в крике, не в нажиме, не в упросе даже загвоздка: просто становится ей каждый раз любопытно дело или жалко людей.
Живут у нее две племяшки, покойной сестры девочки: сестра умерла пять лет назад от неудачного аборта, а муж ее тогда же ушел в город да и женился там на другой. Старшенькая, Ленка, уже в шестой ходит, помощница — но все равно забот куча: и помыть, и обшить, и сварить, и уроки проверить. Казалось бы, больше ни на что и времени не хватит. Но когда у бабки Сидоровны печь задымила, кому печь перекладывать, как не Надюшке? Единственный печник в Падолге — это и был сестрин муж. Да и денег у бабки нет. Да еще любопытно — получится ли. Трижды перекладывала — и вышло, тогда и другие стали ее звать в печники.
А учительнице Марье Захаровне она часы-ходики починила, у себя на ферме — замок. А дома крыша прохудилась — взялась крышу латать. Племяшки помогали в этом, пока младшая, Верка, не подхватила воспаления легких. Фельдшерица велела через день банки ставить и три раза в день колоть пенициллином. Пришлось освоить и банки, и уколы, не будет же фельдшерица каждый день ходить через речку, да ведь у нее и без того день ненормированный… Но главные силы забирала ферма. И работай, и не забывай поглядывать, когда корма привезут, а то девчонки все лучшее своим коровам утащат. Да еще с Погидаевым-гадом весь день ругайся — лучше бы двух коров, нет, трех, чем одного Погидаева.
Он еще в председателях прославился, такой был «блистатель славы», как мама покойная его окрестила. О его правлении ходили анекдоты. Упустил сено скосить и за большие деньги купил на Украине, прессованное. Коровы сено это, продымленное, прикочевавшее на открытых платформах, есть не стали, и пришлось все дочиста пустить на подстилку. А как пошла кукуруза, Погидаев велел лозунги писать — «Лучшие поля кукурузе!» и, чтобы увидали в Падолге этот южный злак, приказал на празднике впереди колонны нести два картонных кукурузных початка. Изгнанный из председателей на ферму, он принялся внедрять сперва холодный метод воспитания телят, а потом беспривязное содержание рогатого окота. Небось, не Крым, минус пятьдесят зимой, и тайга рядом, волки. Девчонки потихоньку телят домой таскали. Несешь, аж плачешь: «Мой, мой, морда ты моя родная, и за что тебя этот злодей на смерть обрек?» А дома мать — она тогда еще жива была — совсем загрызла: «Очумела ты, что ли? Всю избу своими телятами провоняла, создала мне на старости лет коровьи условия жизни».
Многое пришлось суметь, и — гляди — даже в Крым послали за трудовое геройство, а вот лежишь на песке и думаешь — а на черта, Надюня, это твое пешечное геройство? Был бы всяк человек на своем месте — и не надо никаких твоих умений да усилий… Руки пусты — вот и думаешь.
Как-то подсел к ней на пляже курортный знакомый, транспортный инженер Сережа, тронул за плечо. Она подняла голову, улыбнулась, слизывая песчинки с губ. Сергей ей нравился, только она не знала еще — как: то ли как мужчина, то ли как человек.
— Ты чего все одна да одна? — спросил он участливо. — Людей боишься?
— Боюся? Это я-то?
— Ты-то! Спрятала голову, как страусиха, в песок — а все остальное наружу. Смотри, обгоришь. Поплаваем?
— Я пла-авала. Как хлопну рукой по медузе, брр! Вроде живое, а ни глаз, ни шерсти.
— Нда, тварь. Помесь люстры с колпаком от настольной лампы.
Его немного передернуло от собственного «остроумия», но она искренне захохотала: вот ведь может человек играть словами, как кремушками, видно, было у него в жизни время для слов, — думать было у него время, вот что, и какой он, должно быть, счастливый!
— Ладно, пошли, — сказала она. — Так и быть.
Но теперь уже Сергей раздумал.
— Знаешь, голова что-то болит.
И положил ей руку на плечо, но она не стала ждать, что будет дальше, вскочила, побежала по воде, поплыла. Минуту назад она была уверена, что только ей и нужно: слушать, как непривычно свободно он говорит, и учиться. А теперь не понимала ничегошеньки. Если бы на его месте был другой, ну, скажем, Мишка Маккавеев, она бы понимала. Хотя и с Мишкой было не так просто. Тоже ведь ждала от него чего-то: придет, скажет — «Дурочка ты моя бедная, вконец изработалась, славная моя, любимая». Не было этого. Сразу тащил в кусты, и если говорил что, так только срамные слова, зверские, словно о нею нельзя иначе. Нет, вряд ли он хотел ее обидеть, скорее просто ничего другого не знал, а она не могла его научить — сама была бессловесная. И все же иной раз так с ним хорошо было, радостно. Полную силу молодости своей она чувствовала, здоровья, женской власти своей над ним. И все, что было рядом, — земля, травы, стволы древесные, кусты багульника, палый прошлогодний лист — все это становилось как бы ее продолжением. Разве что в словах не могло сказаться. Разве что… И хотя Мишка не мог уже дня прожить без нее, и хотя девчонки все лето провожали ее завистливыми глазами, под конец испугалась она своей и Мишкиной немоты больше, чем одиночества, прогнала его. Мишка ты и Мишка. Да что одиночество? До пенсии ей далековато, дел невпроворот, а здоровья — дай бог каждому. Здорова как корова. Сергей вот жаловался — голова болит. А она — стыдно сознаться — даже не понимает, как это может болеть голова. Или, например, зубы — ведь они костяные. За двадцать пять лет Надюшка ни разу не болела, только вот недавно — свинкой. А они, чудаки, еще послали в дом отдыха, а там Погидаев получит без нее новый аппарат для электродойки и непременно испортит, едва дотронется своими ручищами.
Надюшка нырнула, а когда вынырнула, чуть не попала под весло.
— Топить вас таких надо! — закричал из лодки пожилой дядька. — Буйка не видала, самоубийца?
Опасное все же дело — думать.
Сергей сплюнул в песок, захватил его в горсть и поднес к уху, послушать, как пищит. Посмотрел, как Надюшка далеко за буйком выскочила из-под весла и как поплыла саженками подальше от лодки, вздохнул с завистью, почти с любовью: «Простенькая. Как чижик-пыжик. О господи, и себе бы так. Родиться бы такой девчонкой, взвизгивать от радости и от боли, греться в тепле, дрожать от холода, не притворяться и не делать лица, и ни над чем не задумываться, вот, должно быть, хорошо. Хоть бы здесь, в отпуске, пожить такой жизнью. А вот возьму и сподоблюсь. Что-то мне сдается, нынче вечером мы будем любить друг друга, как изволят выражаться мои милейшие приятели. Должно быть, с ней приятно, уютно и немного смешно». Ему нравилось, что, думая, он всегда закруглял фразы, и если бы существовал аппарат, пишущий под мысленную диктовку, Сергей давно бы стал писателем.
«О мои дорогие приятели, мыслящие вы мои, дорогие мои остроумцы, интеллигунистые, как говорит эта милая девочка; каждый из вас, конечно, уверен, что он — творец, а ничтожества — остальные. А мне из-за вас даже море опротивело: волна походит на волну, как ваши лица одно на другое, и каждая мнит себя единственной, как вы, мои разлюбезные, и если вместо каждого лица поместить на табличке „Мысль — болезнь материи“ — никто бы не заметил замены. А разговорчики ваши можно вполне распределить по карточкам флирта: