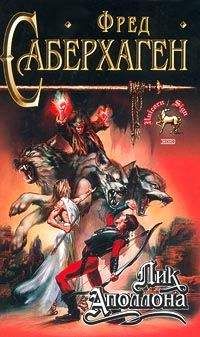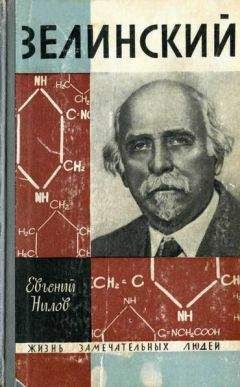Константин Константинович Вагинов
Монастырь Господа нашего Аполлона
1
Наше время, изобилуя открытиями в химии, механике и физике, навело многих талантливых, но несчастных художников на мысль, что оные открытия есть вещь замечательная и вечная. Повинуясь слабому сему рассуждению, отроки и старцы не токмо философию, но и сердце человеческое забыли. Почитая себя пупом вселенной, облеченные в золоченые мундиры и застегнутые в траурные сюртуки, по вечерам круги непотребные совершая, Храм Аполлона и Деметру презрели.
Лето от лета сады поэзии хирели и засыхали. Ни сладкогласие имен, ни благоухание воздусей и солнца в оных не примечалось. Под одеждой сии не чувствовали ни прекрасного тела своего, ни трепетания жил и мускулов, ни лежащих в оных морей, ни произрастающих рощ и градов. И лик Господа нашего Аполлона почернел и сжался. Дряхлая муза с глухой лирой своей обходила грады и веси, стучала в окна и двери, но неразумные старцы и отроки смехом ее изгоняли. Когда появлялась пречистая Диана и в лупанарах звенели скрипки и виолончели, оные художники не совершали прогулок, не вдыхали лучи ее. Когда розоперстая Эос взбегала над градами, они не возносили хвалу солнцу, а возлежали в постелях своих или спешили с черными портфелями своими в места, до поэзии не относящиеся.
И возгорелась любовь моя к Господу нашему Аполлону и прекрасному телу человеческому. Жалко смотреть на Бога нетленного, в тлении поверженного. И восхотелось мне вернуть ему млеко и вино радости и жизни, снова Храм его воздвигнуть.
Братья художники, образуем монастырь Господа нашего Аполлона. Будем трудиться во славу его. Тяжел путь, но радостна вера в воскрешение его.
2
Стих есть тело живое, сердцами нашими сотворенное. Подобно телу нашему, в нем есть жилы и мускулы, и волосы и подбородок.
Что есть сердце стиха? Сердце стиха есть радость или печаль, в оное вложенное.
Что есть кровь стиха? Ритм его, от начала печали или радости бегущий.
Что есть дыхание стиха? Рифмы, на концах растворенные. —
Так говорил братии своей, и не заметили они, как подошли к дому своему.
И говорил еще: "Братья мои, художник не должен быть праздным ни единого часа, ни единой минуты жизни своей. Ты, Гил, зри восхождение божественной Эос, примечай изменение воздуха и атомов под перстами ее; ты, Алкмена, слушай ритм сердца своего и вдыхай зарю всеми порами тела своего.
Но придя в дом свой, не берите перо и бумагу, но посадите наблюдения свои в мозговую извилину, для сего отведенную, и, утром встав, посмотрите, не стали ли они травой и цветами Господа нашего Аполлона. И если почувствуете дрожание сердца своего, берите предметы, для письма полагающиеся".
Так говорил, и уже простился и направился в келию мою. Но они побежали за мной, и заговорил еще: "Художник должен опускать в море мысли своей и весну, и стекло. Опустив весну в море мысли своей, не заметит ли он, что весна — слово легкое, ибо состоит из согласных звуков с, н и имеет посредине легкое е и на конце а, гласную открытую. Слово же стекло — тяжелое. Ибо в нем с сочетается с т, имеется тяжелое к и на конце закрытое о". — Так же и о прочих словах.
3
И когда ночь распростерла свои искрящиеся крылья, собрались мы и пустились на кладбище. Ибо художник должен знать запах, вес и освещение материалов. И трогали мы плиты и нюхали мы трупы для своей будущей печали. И смотрели, как поднимается Диана. Вынимали бутылки с водой и пили, заедали хлебом с сыром. Сказал: "Здесь растут огурцы и картофель. И когда вам надо будет дать ужас, упомяните, что трава состоит из наших органов, и когда вам понадобится умиление, скажите, что наше тело не погибнет, а станет частью птицы и цветка".
Вновь появилась розоперстая Эос. Мы радостные и веселые вскочили с плит и побежали, унося цветы, в коих течет кровь наших предков.
4
Радий есть христианство, братия мои.
Паровоз есть христианство, братия мои.
Пикассо есть христианство, братия мои.
Есть пустыня Оптинская, в ней старец Нектарий, убежище для паровозов и радия изготовляет. Ночью Иисусу своему, из плоскостей и палок состоящему, кадит и молится. Аполлона, Господа нашего разлагает.
О, если бы иметь камень, чтобы пустить в него. О, если бы иметь силу, чтобы убить его. Но оружие художника — это кисть его, но снаряд художника — это картина его. Так давайте, братья, трудиться в поте лица своего.
5
Когда я взвешивал рифмы, явилась мне женщина. И в скуле ее была скрипка, и в глазу папироса, и была она суха и жестка и желта, и сказала: "Я Венера твоя".
И закрыл я лицо руками. Но она уже уходила и кричала: "Верни мне мою молодость, верни мне прекрасную молодость мою!"
6
Вышли мы из дому нашего и проснулись в стране, где вертятся горы. И увидели Аполлона, лежащего посреди нас со сломанной ногой, в коей торчали автомобили и рельсы и вместо крови струилась нефть. Построили носилки мы в 36 локтей ширины и 36 длины и положили на них Бога нашего. И отправились и проснулись у ворот обители нашей.
И вошли мы в ворота и положили Бога под липами. И удалились в трапезную и предались горести. Подходил к окнам и смотрели на него и плакали. И когда покраснела кровь наша, приступили к лечению его. Отрядили трех послов в страну Элладскую, но не вернулись они.
Опять явилась Венера нам и сказала: "Не нашли они лиры со струны, из звона моря состоящими".
И открыли мы лечебник и прочли: "При сифилисе необходимо ртутное лечение".
И спросили мы себя, как лечить сифилис Господа нашего. Ритмом, рифмами или образами.
Решили: сердцем, кровью, дыханием своим.
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Другой же сказал: "Человек стучал, стучал тихо, тихо по ночам и, изображая духа злого, пугал жен друзей своих".
"Алло, алло, приезжайте пить шампанское, — кричала в телефон рыжекудрая красавица, и лысый звездоносец летел и присасывался губами. . . . . . . .", — добавил третий.
"Кто мы, братья мои? Кто мы, — спрашиваю я. — Неужли призраки, коим издеваться дозволяется". — И, говоря сие, услышал за стеной легкий плач. Бог наш скакал к нам на одной ноге, и найдя среди нас женщину прекрасную и млекогрудую, жадно припал к оной и, вертясь, как коловрат, пил млеко и кровь ее. А затем, распухший, заснул среди нас.
8
Когда же стеклянна заря осветила длинные окна, прошло оцепенение наше. Эос, Эос, отчего белая ты встаешь над обителью нашей? Аполлон снова лежал под липами, бледный, худой, но вместо нефти текла кровь из ноги его.
9
В стихотворении слова сочетаются по своей тяжести и легкости. Перемена в оных именуется интонацией. Преломления двух родов бывают: бисерное, именуемое мелодией, и прерывистое, драматическим преломлением именуемое.
Слова должны сочетаться так, чтобы от соседства их возникало сияние и некое волшебство, именуемое очарованием. Для сего не надобно и недопустимо брать слова, означающие один разряд предметов, но необходимо сочетовать до сих пор не сочетоваемые.
10
Братья мои, давно в кельях охваченные кольцами Морфея, спали. Они видели цветные листья, чувствовали тяжесть век своих, и души их стремились уйти из тела.
Уже давно серебряная Диана взошла над обителью нашей, уже давно скакал ночной зефир, но я и Алкмена по-прежнему напрягали перья свои. И раздался за стеной протяжный хруст, а затем длинное сопение и стоны. Мы поняли, что нашего брата Гилла этой ночью не стало.
Бумага была перед нами, и мы вновь склонились над ней.
11
С каждым днем Господь наш становился все розовей и человечней. Уже не было Дианы, той, что распевала по утрам радости тела, не было Гилла, любившего божественную Диану. Ипполита, юноши, боявшегося женщин…
В каждой келии лежали обглоданные кости.
12
Пришел день, когда я остался один в обители. Я видел Аполлона. Он все еще лежит под липами, но теперь он совсем розовый. Только лицо его все еще полно страдания. Перо скрипит. Я один в нашей обители.
1
Сижу у ворот, вспоминая молодость свою. Волосы мои давно от головы отделились. Глаза лежат на стене. Играют и поют дети на месте дома юности моей. Ромашка, куриная слепота и щавель растут там, и хочется мне увидеть Лиду мою, и ночное кафе, и синие рекламы Гала Петер. И обратил я глаза внутрь себя и увидел барона без брюк. Лежит он в квадратном кубе на кровати своей. И приходит к нему новая Манон Леско и приносит ему пищу из дома своего. И играют они. Я же сижу на двуногом стуле.