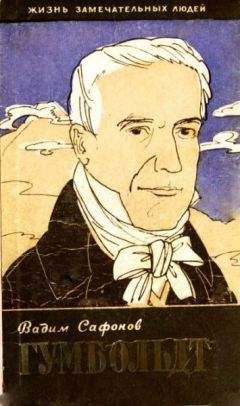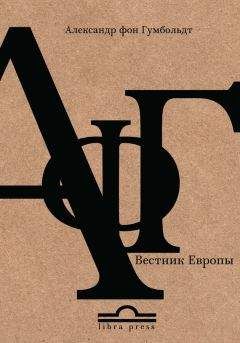Лев Славин
Армения! Армения!
Я вошел в Армению через ворота живописи. То, что в натуре не совпадало с полотнами Мартироса Сарьяна, Арутюна Галенца, Минаса Аветисяна, я отвергал как ересь. Так было, пока я не приехал в Гарни.
Александр Гумбольдт называл Армению центром тяжести античного мира, так как она стояла на равном расстоянии от всех культурных стран древности.
Гарни – плоскогорье, на котором стройно белел, нависая над оврагом, античный храм. За девятнадцать веков, прошедших со дня его рождения, от него остались руины. Я бродил среди разъятых частей прекрасного – поверженных колонн, голубоватых базальтовых глыб, обломков статуй, плафонов, плит с изображением атлантов.
Это языческое капище видело многое. Оно меняло религию, обращалось в христианство и снова, под влиянием царя Трдата III, впадало в эллинистическое идолопоклонство. Только после того, как означенный царь, по словам предания, был превращен в кабана, он одумался, сообразив, надо полагать, что все-таки приятнее быть человеком, хоть и христианином, чем язычником, но кабаном.
Этот клочок земли излучает видения Рима. Но, в сущности, маленькая свободолюбивая Армения никогда не была пленницей цезарей. Тацит писал: «Мы только призрачно завладеваем Арменией…» Армянский царь Артаваз II, сын Тиграна Великого, сочинял греческие трагедии. Это было в те дни, когда туда вторгались римские интервенты. Их вел Марк Лициний Красc, по прозвищу Богатый. Он был крупнейшим финансистом Рима, нажившимся на присвоении конфискованного имущества репрессированных во время переворота Суллы, к которому он примкнул. Плутарх описывает его конец. Во время пира, который давал драматург и царь Артаваз, «трагический актер Ясон из Тралл, – пишет Плутарх, – декламировал из «Вакханок» Еврипида… В то время, как ему рукоплескали, в залу вошел Силлак, пал ниц перед царем и затем бросил на середину залы голову Красса… Таков, говорят, был конец, которым, словно трагедия, завершился ход Красса».
Разбросанные руины храма похожи на гигантски увеличенную игру «Конструктор». Сходство усиливается благодаря тому, что этот античный «Конструктор» сейчас монтируют, Скоро армянский Парфенон возникнет среди гор, окруженный двадцатью четырьмя колоннами ростом с четырехэтажный дом. К нему поведет лестница с девятью крупными базальтовыми ступенями. Это будет поразительное зрелище – классическая Эллада среди хаоса гор, желто-охристых вблизи и нежно голубеющих по мере того, как они уходят вдаль. Это будет другая Армения, греко-римская, не тронутая кистью замечательных ереванских художников. Сейчас здесь трудятся каменотесы и резчики, к которым с таким вниманием приглядывался Василий Гроссман, оставивший незабываемые записки «Добро вам» о современной Армении.
Гроссман приземлял свои высокие мысли об Армении. Он опасался показаться высокопарным и велеречивым. Он прорезал свое волнение бытовым просторечием. Пример:
«А овца, которую хотел пригладить переводчик (так Гроссман называл себя. – Л. С), прижалась к ослику, ища у него покровительства и защиты. Было в этом что-то непередаваемо трогательное – овца инстинктивно чувствует, что протянутая к ней рука человека несет смерть, и вот она хотела уберечься от смерти, искала у четвероногого ослика защиты от той руки, что создала сталь и термоядерное оружие».
Как бы устыдившись собственного глубокомыслия, Гроссман тут же приглушает свой философический накал:
«В тот же день приезжий (то есть он же, Гроссман. – Л. С.) купил в сельмаге кусок детского мыла, зубную пасту, сердечные капли».
Гроссман знал цену слова. «Слово – это целый мир», – сказал армянский классик Туманян. Этот мир Гроссман принес в ту работу, ради которой он приехал в Армению. Может показаться несерьезным и даже отчасти самоуничижительным аттестование себя в третьем лице «переводчиком», тогда как за Василием Гроссманом уже были широко известные книги «Глюкауф», «Степан Кольчугин», «За правое дело». Чего ради он взвалил на себя работу переводчика, это разговор особый. Но, взвалив, он отнесся к ней честно. В процессе перевода романа Р. Кочара «Дети большого дома» переводчик и автор подружились. «Кочар очень мил, внимателен, – пишет Гроссман в одном из писем к жене, – все стремится показать мне интересные памятники и места». Все же в записках своих Гроссман остерегся выводить Р. Кочара под его собственным именем, очевидно для того, чтобы не ограничивать меткость характеристик. Переводчик называет автора Мартиросян.
Записки Гроссмана об Армении «Добро вам» могли бы называться «Объяснение в любви к Армении». Нравилась ли ему его работа переводчика? Гроссман всегда Гроссман, даже тогда, когда он мучился от неосуществленного желания, такого страстного и такого – скажу – естественного: быть самим собой, «…мечтаю о том, – пишет он жене, – как закончу работу и отдохну в тишине, буду снова самим собой, а не переводчиком. И в другом письме: «…люблю быть самим собой, как бы это ни было тяжело и сложно».
Он достиг этого на страницах «Добро вам». Описывая свои первые минуты в Ереване (да в общем и далее в Армении), Василий Гроссман выпустил из себя демона образности. Никогда еще он не писал так живописно, так метафорично. Он приблизился в фактуре последних страниц своей жизни к Олеше, к Катаеву.
Читая опубликованные письма Василия Семеновича из Армении, нетрудно заметить, что восхищение страной иногда окрашивается грустью. А ведь в Армении ему нравилось все: и люди, и природа, и искусство, и обычаи, – словом, все! За одним исключением: его переводческой работы. Он сам называет ее в своих письмах «костоломной». Это и отозвалось в его письмах грустью и горечью.
Странно, что Гроссман не упоминает о дороге на Гегард, упоительно красивой. Горы то сближаются, чтобы раздавить путника, то с неожиданной любезностью вдруг великодушно распахиваются, открывая луга, поймы, равнины. Самое поразительное в горных вершинах Армении – та легкость и охота, с какой они превращаются в подобия воздушных шаров, нежно плывущих в небе. А между тем дикость их неопровержима. Это – окаменевший ураган, застывший мятеж природы. Застывший ли? Он звучит, этот бунт. Я сам был свидетелем того, как из ущелья вдруг вырвался ветер метафор, ударил меня в лицо, едва не сбил с ног. Я понял в ту минуту стилистические истоки «Добро вам».
Армения – страна многоярусная. Рыжие пропасти, циклопическое изящество гигантских хаотических нагромождений, которые словно соревнуются в том, чтобы превзойти друг друга причудливостью форм… И все, как когда-то писал о местах этих О. Мандельштам, «окрашено охрою хриплой».
Построение Гегардского пещерного монастыря предполагает в неведомых средневековых строителях не только талант, но и специальные познания. Впрочем, почему «неведомых»? В пещерной церкви Авазан на одной из стен сохранилось имя строителя, вырубленное в камне: Галдзак. Да, конечно, он строил наверняка: малейший просчет – и гора, в которой выдолблен храм, села бы на головы строителей. Так пусть не говорят мне об инженерных чудесах, якобы творимых верой. Верующий невежда не мог бы создать этот архитектурный шедевр. Невозможно сомневаться, что Галдзак обладал необходимыми познаниями в математике, в сопротивлении материалов. Замечательные древние сооружения рождены не мистическим трансом, а строгим и точным расчетом талантливых и опытных строителей.
Гегард значит – копье. Да, есть в этих древних храмах что-то воинственное, грубое, крепостное. И – крестьянское. «Плечьми осьмигранными дышишь мужицких бычачьих церквей» (О. Мандельштам). Предание говорит, что этими горами владеют вишапы. Слово это означает – дракон. В случае необходимости, разъясняет предание, они принимали образ людей. Следовательно, иные цари и полководцы были на самом деле неопознанными драконами.
Мы пришли к Джотто. Так все называют Геворга Григорьяна. Хотя, на мой взгляд, уж если давать ему прозвище из инвентаря Ренессанса, так скорее Эль Греко, которого, кстати, Григорьян любит и на которого походит гаммой темных тонов, драматизмом сюжетов и удлиненностью изображений.
На полотнах армянского Джотто никакого пленэра, так щедро разлитого в работах многих армянских художников, подсказанного, вероятно, самим цветом Армении и нет-нет, а начинающего кой у кого принимать несколько навязчивый характер. Своими работами Геворг Джотто показал, сколько сияния таится в темной гамме красок.
Он не похож ни на кого из своих современников. Разве только на Руо. Небольшая комната Джотто (она же мастерская) завалена его картинами. К сожалению, они плохо (и в этом не вина художника) расходятся по музеям, они здесь почти все, эти странные, волнующие композиции, такие, например, как «Клавиатура и ласточка» или многочисленные портреты композитора Комитаса, написанные словно бы и не красками, а скорбью и гневом. Жесткая кисть Джотто становится неожиданно мягкой, когда он пишет жену. Начиная с шестидесятых годов, он вводит в свои портреты руки, в изображении которых он достигает острой выразительности. Но в общем длинный путь этого старого художника удивительно целен. По-видимому, его коренная артистическая добродетель – верность себе. Впрочем, прощаясь со мной, он сказал: