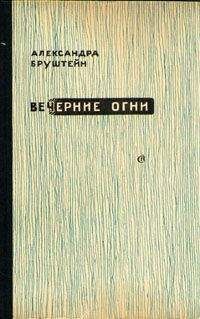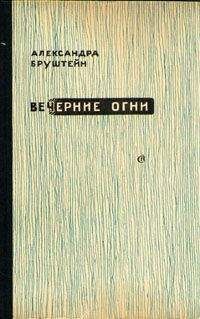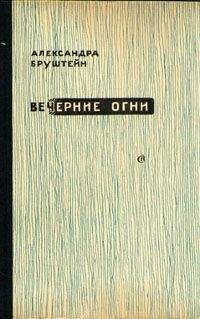Александра Яковлевна Бруштейн
Суд идет!
Труден конец человеческого пути. И всего тяжелее — последние, вечерние версты!
Ноги устали ходить-шагать. Знобко от надвигающейся ночной прохлады. Неуютно, одиноко. И всего тяжелее — темно.
Вот тут и зажигаются они, вечерние огни. Иные светят из прошлого, — их зажигает память. Другие приветно горят из вчерашнего. Есть такие, что сверкают совсем рядом — из нынешнего. Но самые дорогие те, что угадываются в завтрашнем!
Вечерние огни снимают усталость, прогоняют холод, темноту, неуют. Потому что за ними — люди!
Здравствуйте, люди!
Самая длинная улица в Петрограде, конечно, Шпалерная! Или мне только так кажется, потому что я именно по Шпалерной сейчас шагаю?
«Шагаю» — это сказано, пожалуй, слишком торжественно и чудно. Не шагаю я, а бреду, плетусь, почти ползу. Долог путь из Лесного в Петроград. Сколько километров? Десять — это в оба конца, значит, все двадцать! Или меньше? Или еще больше? И это «при нонешней-то пиш-ш-ше!» — как говорит один из моих сослуживцев, наркомпросовских инструкторов!
Правда, не весь этот путь я прошла пешком. У Круглого Пруда, в Лесном, на трамвайной петле, я вдруг увидела вагон трамвая! Не веря своему счастью — ведь трамвайное движение почти замерло, — гражданская война и трамвай, можно сказать, «две вещи несовместные»! — я прежде, чем войти в вагон, робко спросила у вожатой:
— Пойдет? В город?
— Должон пойти… — отозвалась она мрачно.
Трамвай пошел! Он яростно скрежетал всеми частями своего железного скелета, он подозрительно дергался, как припадочный, но сомнения не было: он все-таки шел, он двигался вперед, мы ехали!
Я смотрела на свои неподвижные ноги, они обуты в некое подобие валенок, сделанных из куска старого коврика (их скроила и сшила Марь Фёдна, наша давнишняя работница, прозванная нами «Мастер Пепка-Шей-Крепко»). Я еле верила своему счастью и мысленно делилась им со своими многострадальными ногами: «Понимаете, ноги? Мы едем! Вы не топаете, а мы все-таки идем вперед! К дому!»
Счастье длилось недолго. В какую-то злополучную минуту вагон вдруг страшно застонал, в последний раз скрежетнул, ляскнул зубами, как издыхающий зверь, — и остановился. Несколько мгновений пассажиры продолжали сидеть неподвижно и молчали, — они пытались надеяться. Всем хотелось верить, что остановка эта случайная.
— Дальше не пойдем? — спросил кто-то упавшим голосом.
— Пойдете, — каркнула вагоновожатая. — Ногами пойдете. На своих на двоих.
Мы вылезли из вагона и пошли. Именно так, как она сказала: ногами. Ноги сразу заныли и затосковали.
«Все-таки, — утешала я себя, — не надо грешить, мы проехали порядочный кусок. Самый тяжелый — мимо бесконечных пустырей. Мы уже на Выборгской стороне, и то хлеб!
Пока светло, рассматриваю, не останавливаясь, мимоходом, плакаты, расклеенные на заборах и стенах домов. Тут и призыв: «Грамотный! Обучи неграмотного!» Тут и напоминание о том, что «сифилис — не позор, а несчастье!» (говорят, какой-то неутешный сифилитик на одном из таких плакатов скептически нацарапал карандашом: «Мене от етово не лехче»). Самый развлекательный плакат показывает гигантскую вошь, похожую на краба или каракатицу. Это — вошь-дама. Зад у нее нарисован прозрачный, словно тюлевый, он битком набит великим множеством яичек, будущих вшат… Надписи подробно и понятно разъясняют механику заражения сыпным тифом, который и разносит вот эта самая вошь.
Иду и мечтаю: а вдруг кто-нибудь из едущих мимо, сердобольный и симпатичный, подсадит меня и подвезет?
Этими мечтами я подбадриваю себя. Всякий раз, как между двумя снеговыми брустверами, между которыми, как траншея, вьется узенькая-узенькая улица (спасибо и на том, — некому расчищать, дворники после революции перевелись), показывается голова лошади, тянущей дровни или розвальни, я кричу во весь голос:
— Подвези-и-ите!
Разные возницы относятся к этому моему призыву по-разному. С полчаса назад один из них остановил свою лошадь, посмотрел на меня, — я, наверно, заморена больше, чем его лошадь! — жалостливо поцокал языком и сказал с финским акцентом, задушевно сказал, добрым голосом:
— Мила моя! Я бы рада была, когда бы могла… А только ета мине нефошмошна!
Хлестнул лошадь — и уехал.
Я огорчилась не сразу, — уж очень он напомнил мне давно не виденного вейку! На масленице в Петербург, а потом в Петроград наезжало всегда множество веек. Легкие финские саночки без полости, но с сиденьем, покрытым лоскутным ковриком, запряженные сытыми финскими лошадками! С колокольчиком на дуге и пестрыми бумажными розами и лентами, вплетенными в конские гривы! Как любили дети эти катанья на масленичных вейках! Мы подбегали к вейке, называли улицу, куда хотим ехать, спрашивали:
— Сколько возьмешь?
Финский возница отвечал кратко:
— Рицать копейк.
Или:
— Одна рупь.
Мы влезали в санки, ехали и хохотали. По всякому поводу и без всякого повода. Просто нам было весело: ведь масленица, блины — и все!
Дети мои и сейчас веселые, как, впрочем, вся наша семья. Несмотря на голодный харч и трудности гражданской войны, мы все-таки веселые. Вероятно, это защитная реакция ослабленного организма.
Но вот и скрылся приветливый вейка, которому никак «нефошмошна» подсадить и подвезти меня… Хоть бы не разговаривал он со мной так ласково!
И снова я побрела пустой и пустынной Выборгской стороной…
Несколько времени спустя показались новые розвальни. Однако на мою просьбу «подвезти» возница плеснул в меня такой густой руганью, что у меня дух занялся. Так ошпаривают кипятком чужую собаку, трущуюся около дачной кухни!
Я продолжаю идти по тротуару. На ругателя возницу даже не гляжу. Но он уже остановил лошадь и кричит мне очень миролюбиво:
— Пошто не садишься?
Надо бы, конечно, ответить ругателю что-нибудь величественно гордое… Бросить ему какие-нибудь «кинжальные слова»! Но усталые ноги в ковровых валенках сами потащили меня к саням! Я села на грядку розвальней. Возница вытянул лошадь кнутом. Она рванула так резко и стремительно, что я опрокинулась в розвальнях на спину, а ноги мои взметнулись вверх.
Мы едем, едем!
Возница недовольно ворчит:
— Сама кричит «подвезите», а сама не садится!
— Что же мне садиться, когда ты ругаешься?
— Тебя, что ль, я ругаю? Я большаков кляну!
— А что тебе большевики сделали?
— Большаки? — снова взрывается возница. — Ироды они, аспиды, мучители окаянные. Так, так, так и так! Вчера, — видала такое? — по карточкам гольё с боен выдавать стали. Привез это я домой, развязал мешок, — а ба-а-атюшки мои! Баранья голова, в шерсти, с рогами, глаза замглились, язык из морды висит… Ребятишки мои со страху так и зашлись! Ну, не окаянцы, скажешь, большаки эти? Так, так и так!
— Не тебе одному. Нам вчера тоже гольё по карточкам выдали. Тоже голову баранью…
— Ну и что же вы с головой этой? — любопытствует возница.
— А что же? Шкуру содрали, мозги вынули, поджарили. Все остальное — на студень. Вот сейчас доберусь до дома, ужинать сяду.
Помолчав, возница спрашивает:
— А откель тебя домой метет?
— Из Лесного.
— Из Лесного? — удивляется он. — Не ближний свет! На кой тебя в Лесной понесло? Чего ты там обронила?
— Я там сегодня школу грамоты открыла.
— Вона как! А для чего она, школа твоя?
— А для того, — отвечаю я ему в тон, — что у нас сто миллионов неграмотных от царя осталось! Что же нам — печи ими топить или как?
Некоторое время едем молча. Возница мой о чем-то сосредоточенно задумался. Я наслаждаюсь блаженным ощущением, что усталые ноги словно оживают.
— Я, понимаешь, себя безграмотным не признаю, — нарушает вдруг молчание возница. — Вот у нас приходили какие-то и про всех, как есть, в бумажки писали: кто такой, как звать, откудова рожак, чего делать можешь… И было там еще такое: образование. Какое образование имеете — высшее, среднее, низшее?
— А ты про себя что написал?
— Ну, что написал?.. «Высшее образование» не напишешь: это если кто в емназии учился, не ниже. Ну и «низшее» про меня тоже не напишешь: имя-фамилие подписывать могу, как-никак умею! Я им так и сказал: «Среднее, пишите, мое образование!»
— Все-таки грамоте тебе подучиться бы стоило…
— Ну нет! Заплатите мне, чтоб учился я, — тогда, может, и пойду…
— А тебе и заплатят! Вот именно — заплатят! — торжествую я.
Он и не догадывается, какое удовольствие доставил мне своей последней репликой! Прямо, как говорится, «на лапу мне пошел»!
— Это кто же такое еще мне за учение платить будет? — недоверчиво настораживается возница.
Кратко рассказываю ему: есть такой декрет советской власти. «Декрет, понимаешь? Закон!» Всех безграмотных во всей России обучать! Дать каждому безграмотному — бесплатно, все как есть бесплатно, — и учителя, и книжку, и тетрадь, и чем писать, карандаш или перо. И самое главное — сократить ему рабочий день на одну четверть: шесть часов работы и два часа ученья. А платить ему, как за полный день: за часы ученья, как за рабочие часы. Вот как!