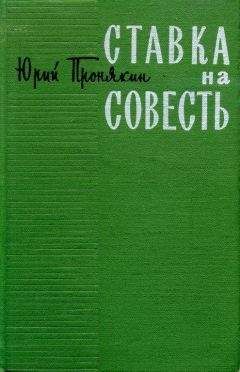Огромная, чернотой налившаяся туча тяжело наползала на сияющую предвечерним солнцем небесную синь. Смолкли птицы. Оцепенели деревья. Вдруг тревожно зашумели сосны, негодующей дрожью отозвались осины. Волны озноба пошли по траве. Над входом в палатку трепыхнулся косяк брезента и забился внутрь.
А туча все надвигалась и надвигалась…
Пропало солнце.
И в тот же миг огненная вспышка ослепила землю, обрушился грохот грома, хлынули потоки дождя. По обочинам лагерных линеек забурлили ручьи. Молодые липки отчаянно замахали ветвями, словно защищаясь от секущих дождевых струй. Солдаты, захваченные грозой, пулей влетали в первые подвернувшиеся палатки. Только дневальные не могли никуда спрятаться и зябко жались к стойкам грибов.
Через четверть часа гроза, обессилев от буйства, стихла. Потрепанные тучи, как бы стыдясь слепого разгула, заспешили прочь, над горизонтом обнажилась золотистая полоска неба.
Воцарился прежний покой. Опять в кустах бранчливо завозились воробьи. Возле жилья сверхсрочников, захлопав крыльями, победно прогорланил петух, точно это он прогнал тучи. Грозы словно не бывало; только потемневший и провисший брезент палаток да стеклянный звон капель, срывавшихся с деревьев в лужи, напоминали о ней.
— Первая рота, строиться на ужин! — голосисто объявил дневальный.
Из палаток стали выбегать солдаты.
— Дневальный, как там насчет дождичка? — с притворной опаской выкрикнул Сутормин, и его курносое лицо расплылось в ухмылке.
— У старшины спроси.
— Сперва на ужин схожу, — проговорил Сутормин и по осклизлой после дождя линейке вприпрыжку, смешно балансируя руками, побежал к месту построения. По пути он будто невзначай толкнул шедшего с солидной неторопливостью ефрейтора Ващенко. От неожиданности тот влетел, как на коньках, в лужу. Балагур же скорчил удивленную мину, приподнял над головой пилотку и скороговоркой выпалил:
— Пардон, нечаянно, ей-богу!
— Сутормин! Рыжий бугай! — разозлился ефрейтор. Его непомерно широкие ноздри вздулись, а негустые белесые брови углом сошлись на переносице.
Сутормин примирительно взял Ващенко под руку.
— Сеня! Не пойму, за что тебя в ефрейтора́ произвели.
— Но-но!..
— Я шучу, Сеня. Все мы знаем: парень ты что надо — «ефрейторов» дают лучшим из лучших, виднейшим из виднейших, — с притворным восхищением сказал Сутормин.
Ващенко не вытерпел:
— Ну что ты языком, як ветряк крылами!
— А как он крыльями? Так?
Сутормин живо взмахнул одной рукой, потом другой и хлопнул ладонью по тонкому стволу сникшей липки. С листьев сыпнуло холодным душем.
— Сутормин! — одернул солдата сержант Бригинец и упрекнул ефрейтора Ващенко: — Никак вы не утихомирите своего дружка.
Ващенко насупился. Вдали громыхнул гром.
— Вдарила бы тебя, Сутормин, молния в язык, — буркнул ефрейтор.
Ответить по достоинству Сутормин не успел: прозвучала команда «Становись!».
Рота выстроилась. Старшина, высокий молодцеватый сверхсрочник, строго посмотрел на замерших солдат и предупредил:
— После ужина живо разобрать оружие — и в строй. Ясно?
— А как насчет перекура? — выкрикнул Сутормин.
— Вопрос не по существу, — осадил старшина. — Рота, напра-а-во!
Строй колыхнулся.
— Шагом марш!
Разом ударили десятки сапог, во все стороны брызнула грязь.
— После ужина у порядочных людей перекур и — на бок, до завтрака, — проворчал Сутормин.
А вскоре, в каске, с автоматом и вещмешком за спиной, с противогазом на боку, сумками и лопатой на поясе, он, как и все, покорно шагал в строю на полигон.
Идти было трудно: гроза превратила дорогу в месиво, и рота, разделившись надвое, шла по мокрой, скользкой траве обочин.
Раздалась команда «Бегом марш!». Рота тяжело затопала.
— Весь гуляш растрясется, — сокрушенно сказал Сутормин. Молчать для него было му́кой.
Через несколько минут перешли на шаг. Но не успели как следует отдышаться — новая команда: «Газы!»
Тугая противогазная маска как обручем обжала круглое лицо Сутормина, больно стянула на темени жесткие с рыжинкой волосы. К голове прилила кровь. Зашумело в ушах. Зато когда химическая опасность миновала, он снова дал волю языку.
Ващенко обернулся на голос Сутормина и чересчур серьезно — он вообще мало смеялся, даже когда шутил, — заметил:
— Ось кому иде противогаз — так это тебе!
— Почему?
— Не слышно, як брешешь.
Полигон занимал обширную, в некошеном июньском разнотравье пустошь, неровную, всю в буграх и выемках. Впереди чернела глухая стена смешанного леса. Для боевых стрельб и тактических занятий места здесь было с избытком.
К приходу роты туда уже прибыли офицеры группы управления, огневые посредники, показчики мишеней, имитационная команда, прожектористы, дежурный врач, солдаты службы оцепления — словом, все, без кого немыслима боевая стрельба, как немыслима театральная постановка без режиссеров, художников, костюмеров, гримеров, без тех, чья работа остается за кулисами и на чьи имена зритель лишь мельком взглядывает, читая программу спектакля.
Ждали командира полка. Ровно в девять из-за выступа леса выскочил квадратный ГАЗ-69 и затрясся на кочках и обнаженных дождями корневищах. Расплескав лужи, автомашина круто развернулась и стала. Из нее выбрался полковник Шляхтин — высокий, немного грузный, но с молодцеватой выправкой. Он молча выслушал рапорт командира батальона майора Хабарова и так же молча прошел к исходной позиции. Остановился, широко расставив ноги, обутые в яловые сапоги, засунул большие пальцы рук за ремень возле пряжки и стал смотреть в настороженную даль полигона. Лишь после этого отрывисто, басом спросил Хабарова, все ли готово. Хабаров ответил утвердительно.
Шляхтин напомнил:
— Оцепление выслано?
— Выслано.
— Не позаснут они там? — легкая ирония вплелась в официально строгий голос полковника.
— Стрельба не даст, — тем же ответил Хабаров.
— Разбудишь ты солдата стрельбой… Ну что ж, начнем, пожалуй. Кто так сказал? Суворов?
— Нет, Ленский Онегину.
Командир полка недовольно покосился на затянутую ремнями ладную фигуру комбата с белевшим на груди ромбиком академического значка и неуступчиво молвил:
— Суворов тоже говорил. Вызывай командиров, — распорядился Шляхтин и направился на КНП[1], оборудованный на небольшом взгорке и искусно замаскированный кустиками и сеткой.
Первыми в окоп КНП явились командиры средств усиления — танкист и артиллерист. Командир стрелковой роты пришел последним. Приложив руку к виску, он стал докладывать, шумно выпуская воздух:
— Товарищ полковник, командир первой роты капитан Кавацук…
Шляхтин нетерпеливым жестом, будто отгоняя комара, прервал доклад и громким, слегка хрипловатым голосом произнес:
— Слушайте боевой приказ!
Кавацук достал из полевой сумки большой потрепанный блокнот и карандаш, принял положение «смирно» и не мигая уставился на командира полка. Одутловатое лицо Кавацука было неподвижно, как маска. Казалось, капитана не удивляло ни то, что его роте предстоит наступать на «противника», который занимает подготовленную заранее оборону и, конечно, окажет упорное сопротивление, ни то, что все это будет происходить ночью. И только когда Шляхтин, вытянув, как Чапаев на тачанке, руку, показал направление, в котором должна наступать рота, и объект атаки, Кавацук повернул голову в сторону безжизненного «поля боя». Записал Кавацук лишь сигналы. Все остальное ему было привычно знакомо. Он знал, что, выслушав боевой приказ, выдвинется на исходную позицию и поставит задачи командирам взводов, которые доведут эти задачи до командиров отделений, а те — до солдат. И каждому станет ясно, где, когда и что делать… За пять лет командования ротой вся последовательность этой предбоевой работы прочно осела в сознании Кавацука. Да и само «поле боя» не таило для него ничего неожиданного, как не раз читанный учебник.
Рота занимала исходную позицию. Солдаты, пригнувшись, пробегали по ходам сообщения, ныряли в траншею и как бы растворялись в ней. Но тотчас то в одном, то в другом месте над бруствером осторожно приподымалось полушарие каски и в сторону «противника» направлялся ствол автомата или пулемета. Вскоре движение в окопах прекратилось. Все замерло в ожидании. Кочковатая, взъерошенная травой и кустами поверхность полигона сделалась черной и ровной. Лес преобразился в зубчатую стену, тоже черную и плоскую, как тень. Зажглись звезды. Свежий ветерок скользнул по мокрому полигону, влетел в траншею и, заплутавшись в ее изломах, стих. Наступила ночь. Лишь на западе, над самой кромкой леса, небо еще теплилось слабой желтизной угасшего дня.