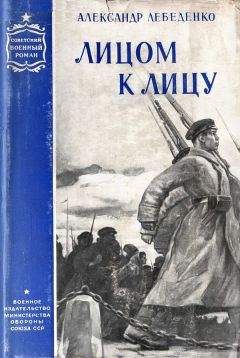Человеческое счастье заключается в том, чтобы суметь что-нибудь страстно полюбить и не бояться при случае пожертвовать для этого своей жизнью.
СтендальЖизнь — это работа, ремесло, которому приходится тяжко учиться.
БальзакЧасть первая
ДОМ НА КРЮКОВОМ КАНАЛЕ
Кудрявый парень развернул гармонь во всю ширь и замер. Из-за оборвавшегося звука, как из-за ширмы, вышли голоса усеянного людом перрона.
— Идет! — оповестил мальчишеский альт, и головы, как флюгера по ветру, все повернулись в одну сторону.
Бросая в морозный воздух тревожные, вместе с тем лихие, почти ликующие свистки, скорый вынырнул из-за рощи и в шарфе белого дыма уже подлетал к перрону.
Мешки, сундучки, брезентовые ранцы взлетали на плечи. Проводники еще на ходу кричали что-то с подножек, но люди, чертыхаясь, теряя силы под грузом, всем перроном побежали вдоль вагонов, стараясь угадать места у входов.
— Опять солдаты и на буферах, и на крышах… Откуда их столько? Как вшей из мотни, — волоча мешок по снегу, бурчал рябой крестьянин.
— Как полагается… — равнодушно сплюнул, сторонясь, ефрейтор. Это был не его поезд.
Солдаты, разбежавшись, плечом, как тараном, резали сбившуюся толпу, оттаскивали передних за полы шинелей и полушубков, поднимали над головами узлы и корзинки, роняли их на плечи соседей.
Лязгнув буферами, поезд стал, и тогда начался неистовый штурм вагонов.
И уже женщина с ребенком беспомощно села на сундучок. Ей было не пробиться, и на глазах у нее остановились тихие, не первые слезы…
У выпускавшего пар локомотива какой-то купец, в поддевке и коротких сапогах, закинув голову назад, кричал что-то вверх машинисту. В позе величайшего равнодушия стояли за его спиной двое парней, уставив на попа тяжелые, оплетенные рогожами и толстой веревкой ящики.
Машинист снисходительно кивнул головой, и ящики полезли один за другим на дрова, а купец тут же, на тендере, на куче угольной пыли, стелил брезентовый плащ военного образца.
На нижней ступеньке самого последнего, низкорослого и укороченного вагона скрестили штыки двое часовых.
— Проходи, проходи, товарищ. Штабной вагон. Проходи вперед.
По акценту легко было угадать латышей.
Задержавшиеся именно в расчете на последний вагон люди, остервенело бранясь, забрасывали на плечи мешки и спешили к толпе, наседавшей на соседний пульман. Но ударил второй звонок, и теряющие надежду солдаты опять рванулись к часовым:
— Пусти хоть на крышу, товарищ.
— Нет хода…
— Пусти на буфер!
— Пустой же вагон…
— Офицерьев возют…
— Проходи, проходи, товарищ.
— А если нам ехать надо?
Толпа у вагона росла. Второй звонок подействовал на нее, как удар хлыста.
— Почему пустопорожний вагон идет, когда везде давка?
— Пустите добром, товарищи.
Солдат в папахе, с корзинкой в руке и ранцем за плечами, прыгнул на подножку между часовыми. Часовой приложил свисток к губам. В вагоне зашевелились люди. Трое латышей в аккуратных солдатских шинелях показались в проходе.
— Пусти военных, товарищ, — поддержал солдата артиллерист с крепкими плечами. Из-под лихой фуражки пружиной выбивались непокорные кудри. — Почему это нам в штабном нельзя?
— Сойди, товарищ, — спокойно сказал латыш в портупее.
Из коридора глядели стволы винтовок.
— А и что тут раскомаривать. Садись всем миром! — крикнул солдат с корзинкой и хотел стащить за руку одного из часовых. Но на подножке его встретил высокий командир. Он отвел руку солдата легко, как детский кулачок. Путаясь в длинной шинели, солдат спрыгнул на асфальт.
— Вагон революционной власти. Никто не поедет, — негромко, но твердо сказал командир.
— А мы кто — контрики? — запальчиво крикнул артиллерист.
Теперь он один стоял на подножке.
— Революционная власть… Надо понимать, товарищи.
— Какой ты еще такой революционер? Просмотреть тебя надо. Охвицер переодетый.
Машинист дал свисток. Последним усилием ринулась толпа в вагоны. Гармонь опять радостно взыграла на перроне. Пробежав три-четыре шага, неудачники остановились. Тяжелый груз связывал движения. Поезд уходил. И только артиллерист, потеряв брезентовую сумку, остался на подножке, крепко держась за поручни.
— Арестую тебя, — резко сказал командир. — Проходи, ответишь по закону.
Часовые отступили в коридор.
— Вот испугал, — заявил, поднимаясь в вагон, артиллерист и уже совсем добродушно, довольным голосом добавил: — Мне лишь бы ехать. И сумку, черт, посеял… А там хлеб…
Командир смотрел внимательно на артиллериста.
— За действия против власти ты пострадаешь…
Он был высок, худ, но крепок, этот командир. Лишенные жира мускулы его напоминали сухожилия соколиного крыла или пружины стального механизма. Слова он бросал уверенно, с сильным латышским акцентом.
Но артиллерист все еще переживал чувство победы. Он не застрял на этой проклятой станции, где просиживают неделями, впадают в отчаяние, проедаются и болеют, не попадая на проходящие к Петрограду поезда. Усталым победителем он опустился на первую скамью у входа. Два стрелка подвинулись молча. Артиллерист посмотрел на них добродушным взглядом, но латыши отвернулись.
Тогда артиллерист впервые почувствовал смущение.
В вагоне было тихо. Только наперегонки стучали колеса. В дальней части вагона, у закрытых дверей отдельного купе, стоял часовой, хранивший в чертах лица и в наклоне винтовки боевую серьезность. Винтовки команды стояли у стены. Ранцы висели на крюках, на полках были уложены тощие постели. После плещущей народом станции эта необычная картина порядка поразила и постепенно заняла все мысли артиллериста. Откуда это непривычное спокойствие и чье оно? Вся армия бурлит. По всем прифронтовым дорогам серой и злой лавиной несутся тысячи покидающих окопы солдат. На станциях и в ближайших городах они громят спиртные склады, и белая бутылка гуляет по тесно набитым вагонам. Кто осмелится стать на пути этой человеческой бури, так долго пребывавшей в окопах?
Порядок нравился артиллеристу, но ему недоставало доброго человеческого разговора. Лица стрелков были замкнуты. Стрелки смотрели в окна на бег зимнего бело-зеленого леса, курили и вполголоса разговаривали на незнакомом языке.
За окном промелькнул разъезд, и артиллерист, ощутив приступ голода, полез в мешок. Но хлеб, шпик и соль — все осталось на перроне в оброненной сумке. Он нашел в мешке только печеный картофель и луковицу. Повертев в пальцах картофелину, он откровенно вздохнул и решил есть без хлеба. Молчаливый сосед пододвинул ему соль в бумажке. Артиллерист улыбнулся и опустил картофель в соль. Тогда второй латыш снял со стены ранец, вынул оттуда хлеб и тоже положил перед ним.
Артиллерист, не колеблясь, откромсал солидный кусок ржаного деревенского хлеба. Он ел с аппетитом. У него было такое ощущение, как будто он отнял эту еду в бою. Он ел и улыбался про себя.
Лес кончился, простегнутое телеграфными проводами снежное поле стремилось за окном.
— Товарищ, комиссар просит…
Артиллерист, не складывая мешок, отправился в купе. Стрелок положил ему хлеб в мешок и свернул порошком бумажку с солью.
Командир и комиссар латышского отряда Альфред Бунге сидел у окна на покрытой красным одеялом койке. Худые колени высоко поднимались над скамьей. У него были собранные бледные губы и нижняя часть лба выступала далеко вперед.
— Сядь, товарищ.
Пристальным взором он изучал артиллериста. Слова и фразы он произносил медленно, как будто переводил на русский язык с другого языка и боялся что-нибудь перепутать.
— Откуда едешь?
— В Петроград пробираюсь.
Альфред пожал плечами.
— Откуда, я спрашиваю. С фронта?
Артиллерист подумал.
— Пожалуй что с фронта.
Комиссар нетерпеливо застучал ногой по полу.
— Видишь, — пояснил артиллерист, — комитет послал меня в Минск еще в ноябре. А я там застрял, значит. Задержали… Приехал на фронт, а дивизиона нашего давно нет. Начальство убежало, а пушки комитетчики повезли куда-то на Волгу. А куда, истинно никто не знает. Проезда не дают. Я покрутился в штабе армии. Никто не кормит — я и дернул в Петроград… Вот и все.
— Ты петроградец?
— Работал на заводе…
— На заводе? — удивился латыш.
— В первую меня мобилизацию взяли. По черным спискам.
Всего год работал Алексей на заводе, но он был горд этим и всем говорил, что он рабочий.
— Ты что ж, партиец?
— С семнадцатого. На фронте.