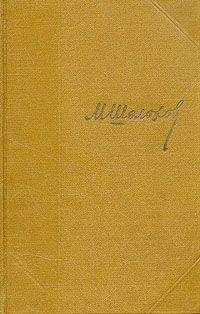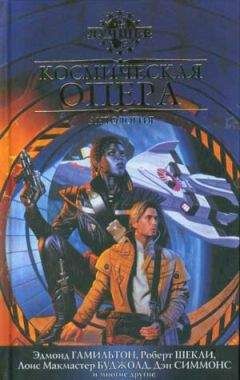Михаил Александрович Шолохов
Собрание сочинений в восьми томах
Том 8. Рассказы, очерки, фельетоны, статьи, выступления
По станице Лужины давнишне грязная корка снега, недавно прилетевшие грачи в новом, цвета вороненой стали, оперенье.
Дым из труб рыхл и тонок. Небо как небо, — серое. Контуры домов расплывчаты от реденькой мглы, что ли. Лишь за Доном четкая и строгая волнится хребтина Обдонской горы да лес стоит как нарисованный тушью.
В нардоме районный съезд Советов. Начало. Секретарь окружкома партии уверенно расстанавливает слова доклада о международном положении. На скамьях делегаты: сзади глядеть — краснооколые казачьи фуражки, папахи, малахаи, дублено-полушубчатые шеренги. Единый сап. Изредка кашель. Редко бороды, больше голощекого народа с разномастными усами и без них.
Секретарь читает ноту Чемберлена. Из задних рядов запальчиво:
— Пущай не гавкает!
Председательствующий звонит стаканом о графин:
— К порядку!..
А после доклада, в получасовом перерыве, когда в фойе поник над папахами табачный дым, в гуле голосов услышал я знакомый, как будто Майданникова голос. Растолкал ближних. Он, Майданников, вновь избранный председатель хутора Песчаного. Вокруг него куча казаков. Самый молодой из них, в неизношенной буденовке, говорил:
— …И повоюем.
— Наломают нам хвост…
— А раньше-то!
— У них, брат, техника.
— Техника без народу что конь без казака.
— Аль народу у них мало?
Майданников заговорил опять. Голос у него густомягкий, добротная колесная мазь.
— Ты брось это. Ты, односум, белым светом не того… Случись война — она нам не страшная… Тю, да ты погоди! Дай сказать-то! Кончу я молоть, тогда ты засыпешь, а зараз слухай. Нас в германскую забрали в пятнадцатом году. Третьей очереди я был. Из станицы Каменской сотню нашу — на фронт. Пристебнули к восьмой пешей дивизии, мы и ходим с ней, навроде как на пристежке. Побывали в боях. Под Стырью с коньми расстались. Всучили нам штыки на винтовку, и превзошли мы в кобылку. Воюем. В окопах и по-разному. А больше всё в них. Год в проклятой глине просидели. Четыре месяца без отдыху. Вша нас засыпала! Тут — с тоски, а тут — немытые. И вши были разные: какие с тоски родются — энти горболысые, а какие с грязи — энти черные, ажник жуковые. Хучь они и разные, а кормили мы их одинаково, рубаху, бывалоча, сымешь, расстелешь на землю, как потянешь по ней фляжкой али орудийным стаканом — враз кровяная сделается. Палками их били, ремнями… Как животных убивали. Вот до чего много их развели! Косяками в рубахах гуляли.
А сами воюем. За что, как и чего — никому не известно. Чужое варево хлебали.
Год прошел, и заняла меня тоска. Смерть — и все! Тут — по коню стосковался, по месяцам не видишь, как его коновод правдает; там — семья осталась неизвестно при чем. А главное дело: за что народ — и я с ним! — смерть принимает, неизвестно.
В шешнадцатом году сняли нас с фронта, увели верст за сорок. В сотню пополнение пришло, почти что одни старики. Бороды пониже пупка, и все прочее. Поотдохнули мы трошки, коней выправили. И вот тебе — бац! Из штаба дивизии приказ: двинуть нашу сотню к фронтовой линии. Там, мол, солдаты бунтуются, не желают в окопы, в глину лезть; с смертью кумоваться не желают…
Разъяснил нам есаул Дымбаш: так, мол, и так. Я взял тут написал ему записку и кинул из толпы:
«Ваше благородие, вы нам всчет войны разъясняли, что народ разных языков промеж себя воюет. А как же мы могем на своих идтить?» Прочитал он и сменился с лица, а сказать ничего не сказал. Тут-то мы и разжевали, на что к нам старых казаков в сотню влили, да и то из староверов. Они за царя дюжей и за все дюжей могли стоять. Одно дело — старые, служба давнишняя их вышколила, а другое дело — дурковатые, службой убитые. И то: в энти года в полку ум человеку отбивали скорей, чем косарь косу отобьет.
Погнали нас на солдатов. С нами четыре пулемета и броневая машина. Подходим к месту, где полк бунтуется, а там уже две сотни кубанцев, ишо какие-то дикие и собой рябые, на калмыков похожие, окружают этот полк. Страшное, братцы, дело! За леском две батареи с передков снялись, а полк на прогалинке стоит и ропщет. К ним офицеры подъезжают, усватывают их, а они стоят и ропщут.
Отдал есаул наш команду, повынали мы палаши и — рысью, охватываем солдат подковой… И кубанцы пошли… И зачали солдаты винтовки кидать. Свалили их костром и опять ропщут.
А во мне сердце кровью закипает, аж на губах солоно горит. Как я могу человека в энту могилу гнать, ежели я сам там жизни решался, жил в земле, как суслик?.. Подскакали. Вижу я: казак нашего взвода Филимонов сгоряча бьет солдата шашкой плашмя по морде. И на глазах моих пухнет у энтого морда и вся в крови, а он оробел. Молодой солдатишка и явно оробел. Так по мне мороз и пошел, не могу с собой совладать, подскакиваю:
«Брось, Филимонов!» Он меня в мать, даром что старовер. Я палаш занес, постращать хотел: «Брось, — говорю, — а то, истинный бог, срублю!» Он как рванет винтовку с плеча. Я его и ширнул концом палаша в глотку… Как в чучелу ширнул, а вышло — живого человека снял с земли… Получилось тут такое, что сам черт не разберет. Кубанцы зачали в нас стрелять, мы — в них. Дикие, рябые энти, на нас в атаку, а солдаты подхватили обратно винтовки и опять ропщут и стреляют по всей коннице. Там такая была волнения…
Захватили нас оттуда, сначала в тыл было направили, потом как ахнули в Карпаты; с гашников не успели вшей обобрать, и вот тебе Карпаты. Идем ночью по ходам сообщения. Приказ — чтоб ни стуку, ни бряку. Оказалось, австрийские окопы в сорока сажнях от наших. День живем. Головы не высунуть. Дождь. Мокро. В окопах по щиколки грязи. Нету во мне ни сну, ни покою. Жизни нет! Как так, думаю: за что мы в этих окопах с смертью в обнимку живем? Стала мне колом в голове мысля, чтоб погутарить с австрийцами. Ихние солдаты по-нашему гутарят. Иной раз шумит: «Пан, вы за что воюете?» — «А вы за что?» — шумим. Не могем порешить за дальностью расстояния. Думаю: вот бы собраться по-доброму, погутарить. Нету возможностев! Разделили народ проволокой, как скотину, а ить австрийцы такие же, как и мы. Всех нас от земли отняли, как дитя от сиськи. Должон у нас ить один язык быть.
И вот утром раз просыпаемся, а караульный шумит: «Гля, братцы, за нашу проволку зверь зацепился!» И австрийцы, слышим, взголчились, как грачи на жнивье. Я это высунул трошки голову, а супротив меня стоит лось, зверь. Такой — навроде оленя, рога кустом. И зацепился за проволочные заграждения рогами. Левей нас по фронту сильные бои шли, вот стрельба и нагнала его промеж окопов.
Австрийцы шумят: «Пане, выручайте животную, мы стрелять не будем!» Я шинель с себя и — на насыпь. Глянул на ихние окопы, а там одни головы торчат. Толечко я — к зверю, а он — в дыбы, аж колья, укрепы, зашатались. Мне на помогу ишо трое казаков повыскакивали. Ничего не могем поделать, он к себе и близко не подпущает! Глядь, австрийцы бегут — без винтовок, и у одного ножницы.
Тут-то мы и загутарили. Наш сотник слег на насыпь и целит из винтовки в крайнего австрийца, а я его спиной заслоняю. Не могли же нас офицеры разогнать, и повели мы австрийцев гостями в свои окопы. Зачал я с одним говорить, а сам ни слова ни по-ихнему, ни по-своему не могу сказать, слеза мне голос секет. Попался мне немолодой австрияк, рыжеватый. Я его усадил на патронный ящик и говорю: «Пан, какие мы с тобой неприятели, мы родня! Гляди, с рук-то у нас музли ишо не сошли». Он слов-то не разберет, а душой, вижу, понимает, ить я ему на ладони музоль скребу! Головой кивает: «Да, мол, согласен». И собралась округ нас куча казаков и ихних. Я и говорю: «Нам, пан, вашего не надо, а вы нашего не трожьте. Давай войну кончать!» Он опять, вижу, согласен, а слов не разумеет и зовет нас руками к себе. Объясняет: там, дескать, есть наш, который по-русски кумекает. Мы и пошли. Вся сотня снялась и пошла! Офицеры напугались, ходу. Пришли мы в австрийские окопы. Чех у них по-нашему гутарит. Я с своим австрийцем гутарю, а он переводит. Я своему подовторил, что мы не враги, а родня. И опять же ему на ладони музоль ногтем поскреб и по плечу похлопал. Он через чеха отвечает: «Я, мол, рабочий, слесарь, и очень согласен с вами». Говорю ему: «Давайте войну, братцы, кончать. Никчемушнее это дело. А штыки надо по сурепку тем вогнать, кто нас стравил». Его ажник в слезу вогнали эти слова мои. Отвечает, что дома бросил жену с дитем и согласен войну кончать. Шум мы подняли великий. А офицер ихний ходит индюком и зубы, падло, скалит. Братались мы и кохвей у них пили. И такой мы язык нашли один для всех, что слово им скажу, а они без переводчика на лету его понимают, шумят со слезьми и целоваться лезут.
Как пришел я в свои окопы, то вынул из винтовки затвор, затолочил его в грязь и кровно побожился, что больше разу не стрельну в австрийского брата: в слесаря, рабочего, в хлебороба… В эту же ночь ушла наша сотня из окопов, разоружили нас возле деревни Шавелки. А спустя время получился переворот, царя в Петербурге наладили…