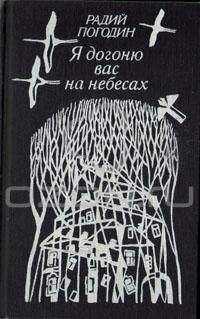— Наверно, в трамвай не пустят, — сказал я.
Шлагбаумщица успокоила:
— Пустят. Сейчас таких, как вы, много. Немец Кингисепп взял. К Гатчине подступил.
Мы молча пошли к трамвайной остановке.
На Невском пересели на «пятерку» — Наталья Сергеевна жила на Большом проспекте Васильевского острова, я — в Гавани.
Я не был в Ленинграде полтора месяца. Город за это время изменился мало. Правда, Гостиный двор пугающе напоминал острог. На других магазинах забранные досками витрины были оклеены плакатами и выглядели повеселее.
Автобусы были редки. Это я заметил — моя мать работала в автобусном парке водителем. С год назад она перешла в таксопарк на Конюшенной площади, но опять-таки водителем автобуса.
На Шестнадцатой линии я помог Наталье Сергеевне с девочками сойти и сам сошел.
— Ну, — говорю.
— Чего? — спросила она.
— Попрощаться. Вы мне обузой не были.
— Приходи, капитан. Дай запишу адрес. Нам с тобой было весело. — Она записала свой адрес в тетрадку под адресами женщин, шагающих в Окуловку. Наверное, они еще идут — с ребятами по шпалам… — Если бы ты нас не взял, мы бы еще знаешь где околачивались?
Она, конечно, издевалась. Как бы это я их не взял? Я мог только от них удрать.
— Представления не имею, где бы мы околачивались — может, уже в плену. Как немец прет — обалдеть. — Послюнив платок, Наталья Сергеевна оттерла уголь с моей щеки и поцеловала. — Послушай, капитан, зови меня просто Наталья. Неужели это так трудно?
Аля и Гуля потянулись меня поцеловать, пришлось присесть.
— Приходи, пожалуйста, у нас пушка есть и кинжал черкесский.
Со стороны можно было бы подумать, что я действительно ее братишка — девчонкам дядя Леня. И когда они на меня сердятся, они надувают губы, глядят исподлобья и говорят мне: «Ты нехороший дядька Ленька».
Взгляд со стороны в этом рассказе нужен еще потому, что описание внешности героя всегда получается убедительнее от третьего лица, нежели от первого.
Он был крепким пареньком, еще по-детски длинношеим, с приятной внешностью, какую принято называть интеллигентной. Волосы носил длинные, видимо выдержав большую борьбу с официальным школьным парикмахерским каноном, спортивной модой и представлением матери о гигиене. Мать поливала ему в кухне на голову из чайника и говорила хриплым табачным голосом: «Ты завейся. Я тебе щипцы куплю».
Но старший брат его не порицал. Старший брат тоже носил длинные волосы. Это было у них как заговор, как тайный знак.
Дома никого — ни соседей, ни матери. Коридор пустой и длинный. В коридоре ничего не держали, так было договорено, — и в кухне ничего лишнего. В каждой комнате часы тикают — у каждого жильца свое время — одному в самодеятельность бежать, другому идти в церковь.
Я не успел лица помыть, только грязь размазал, как раздался звонок в дверь. Это была почтальон — тетя Луиза. Она глядела на меня как-то медленно, и тоже медленно и брезгливо кривился ее рот. Она сказала: «Явился» — и подала мне конверт. У нее было их несколько, одинаковых.
Мы, конечно, издевались над ее котом-кастратом Христофором, таким громадным и таким жирным, что когда он, извиваясь, как гусеница, передвигался, брюхо его волочилось по земле. У него был пушистый прямой хвост. Он был чудовище.
Тети Луизино брезгливое выражение не было связано с моим отношением к ее коту: все-таки мы ему сострадали, хоть издевались над ним словесно. Он нас не боялся, даже в руки шел — тяжелый, как больной ребенок. Да и не было у тети Луизы выражения брезгливости — она еще не привыкла к этим конвертам и, зная, что в них, не могла не рыдать.
Красивая студентка Мария, отличница и активистка, обвинила писателя Пе в том, что в его сочинениях часто плачут.
О боже! О Мария! Ваши пальцы, пахнущие луком, конечно, могут объять необъятное, даже поцарапать его или ущипнуть, но парадигмой слез все же являются слезы Марии-Девы, омочившие лицо Христу.
В жизни нашего с писателем Пе поколения было так много поводов для слез, что их не спрячешь ни в ирониях, ни в сарказмах, ни в эмалевом небе среди орденов и медалей. Когда нам заявляют, что мы заплатили за победу двадцатью миллионами жизней, то, может быть, пора спросить: но почему так дорого? И слезы бессилия накатятся на глаза — мы заплатили вдвое — втрое — вчетверо, чтобы вернуться к человеческому, не пожелав в конце концов стать ни полубогами, ни получертями.
Сколько себя помню, я никогда не плакал. Это не облегчило мне жизнь, не подняло ее над жижей. Мать утверждала, что я не плакал с рождения и ей приходилось шлепать меня ладошкой по голому заду, чтобы вызвать слезы. «Ну хоть слезиночку. Я думала, что ты бесчувственный. Ты все равно не плакал, только смотрел на меня удивленно, кряхтел и улыбался».
Я не заплакал и в тот раз, когда прочел похоронку на моего брата Колю. Мне казалось, что это обман, но обманула меня не военная канцелярия, обманул меня Коля — бросил одного и ушел, а он никогда меня не бросал. Он и меня научил не бросать.
Он был всегда впереди, и я шел за ним. Я ему не подражал, это было невозможно, у нас были разные характеры, природа определила нам разные цели. Мы вздымались по разным лестницам, но он был всегда выше. И не потому, что старше, — мое сердце училось у его сердца.
Я спрятал похоронку в свой школьный портфель и вышел на лестницу.
Почтальон с красными глазами спускалась сверху.
— Тетя Луиза, не говорите маме об этом письме, — попросил я.
— Ты его не порвал?
— Нет. Я его спрятал.
— Нехорошо это. — Она посмотрела на меня пристально, и мы оба поняли, что думаем об одном и том же: известие о моей гибели мою мать не сломило бы, но брат Коля…
— Ладно, — сказала тетя Луиза. — Иди умойся.
Я умылся и нажарил картошки. На столе лежали продовольственные карточки и записка от матери — она повезла людей на окопы. Приедет через неделю и снова уедет. По числам выходило — сегодня.
Я могу признаться, что в блокадную зиму чаще вспоминал брата. Брат был ласковее со мной. Наверно, он и был мне матерью, а мать — по распределению ролей — отцом, финансовой силой, дланью, меня наказующей.
Брат был богаче меня родственниками — у него была мать, был я, были отец, три мачехи, третья — прекрасный человек, тетя Валя, и еще братик маленький с фиалковыми глазами и сестричка — совсем крошка, суровая и непреклонно властная. «Гу-у!» — говорила она, когда хотела сказать, что никакой расхлябанности не потерпит.
В ранние годы, в моменты нашей отчаянной бедности, брат брал себе всегда меньший кусок. Я его не понимал, мне думалось — он сам больше и кусок ему следует больше, но все же научился у него, понял, что это так естественно и потому не натужно.
В школе он учился на тройки. Уроков не готовил. Бросал портфель под кровать и уходил куда-то или садился читать. Школьная программа не устраивала его своей линейностью и слабоструйностью. Струйность, тем более слабую, он не признавал. Он обучался сам. Вливал в себя премудрость тазами, ведрами, бочками. Причем в этих тазах и бочках было столько всякого — но очень мало школьного.
И вот он вдруг прославился на весь район как гений математики. Но гением он не был — так он считал.
В шестом классе он подружился с девочкой — девятиклассницей. Стал ходить к ней в гости, беседовал с ней и ее родителями, пел с ними. Я спрашивал ехидно: «Втрескался?» Он пожимал плечами: «Не ощущаю».
Девочка хромала по всем точным наукам, ей нанимали репетиторов, поскольку тройка в их семье считалась отметкой зазорной, как неприличная болезнь. Мой брат взял в библиотеке нужные учебники — в библиотеках его обожали, — проштудировал все по девятый класс включительно, а может быть, с разгону-то и далее. Он так толково объяснял своей подружке и алгебру, и химию, и физику, и тригонометрию, что она, как человек честный-благородный, поведала об этом чуде учительнице. Брат стал в школе звездой. Заведующая учебной частью приглашала инспектора роно и гороно — показывала им феномен. Брат отвечал на их вопросы спокойно и невозмутимо — и получал законные тройки по другим предметам, поскольку материал по истории, литературе, географии воспринимал только через свои умные книжки. Он предлагал взамен уроков поведать педагогам о Шопене и Кьеркегоре.
Физически он не был сильным, но, когда я слишком возгордился своими спортивными достижениями и, этак поводя плечами, стал подтрунивать над некоторыми головоногими, он пригласил меня на крышу нашего шестиэтажного дома и с легкого толчка выжал стойку на жиденьких перилах ограждения — правда, на углу.
Вопрос: когда он успел подготовиться?
Ответ: он знал всегда, что это необходимо, что это время придет, — он был старшим братом.
Я глянул вниз и понял, что он опять вырвался вперед, как стрела, как орловский рысак супротив осла, и дело тут не в стойке. Кстати, стойку на перилах я освоил быстро.