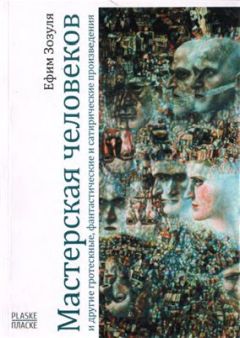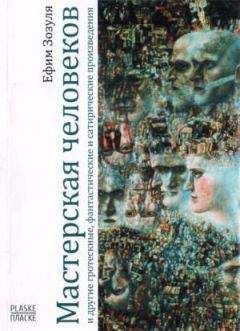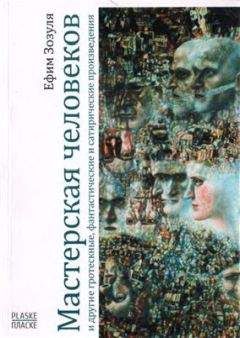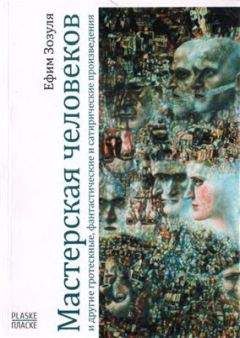—Черт его знает! — повторил Латун. — Кутерьма вокруг такая, что, право, забываешь, как люди выглядят. Я вижу одно тесто людское… ткани… чепуху всякую… и вот эти эликсиры и колбы. А людей не вижу.
Ну ладно! Погром кончился, порядок восстановлен — люди куда-то ходят, приодетые, вымытые… Мы не хуже других. Пойдем тоже, посидим, посмотрим и подберем образец для жениха.
И на другой день, под вечер, когда не было Кнупфа, Ориноко и Камилла, Капелов напомнил Латуну о его намерении.
Они приоделись, Латун, заметно оживившись и даже что-то напевая, надел гуттаперчевый воротник, с которого смыл засохшую — по-видимому, свою же кровь тряпочкой. Капелов быстро побрился, и они вышли.
Город, небольшой, по-южному беспечный, отдыхал, точно в нем ничего не произошло — ни погрома, ни величайшего на земле открытия. В черной тьме приятно подтанцовывали огоньки. На главной улице, где мостовая была асфальтирована, публика разгуливала взад и вперед. Девушки попарно, по трое и по четверо жались друг к другу. Им преграждали путь парни. Некоторые с лихим видом опытных донжуанов размахивали палочками, руками, фуражками, хорохорились на все лады, курили, ругались и всячески обращали на себя внимание. Девушки взвизгивали от их приставаний и смеялись. Смех перемежался с различными выкриками тех и других. Теплый вечер благословлял и нежил всех. Население отдыхало, молодежь резвилась. В темном небе зажигались звезды.
У афишной витрины Капелов заметил большое извещение о концерте. Тут же, невдалеке, находилось и здание театра. Его освещали большие огни, и публика сплошной массой поднималась по старым покривившимся ступеням широкого входа.
— Вот, зайдем сюда, — предложил Капелов.
— Почему сюда?
— Тут концерт. На концертах обыкновенно не тушат электричества в зале, мы будем иметь возможность видеть людей. В театре и кино, как известно, зал во время исполнения не освещен.
— Хорошо, — задумчиво и мягко согласился Латун.
Положительно, он был бесподобен в этот вечер! Капелов не знал, как выразить ему благодарность и восторг.
От первых резких и патетических фанфарных звуков симфонии у Капелова сперло дыхание, горло сжала спазма, и из глаз полились слезы.
Не зная от смущения, куда девать мокрые глаза и прыгающие губы, Капелов, страдая, хотел повернуть голову, — ведь люди стыдятся слез, которые они проливают в театрах, в кино и на концертах, — но он не смог: голова ведь у него не поворачивалась в обе стороны…
Опять волна ненависти поднялась в нем против Латуна: ну что ему стоило поправить голову, чтобы она могла свободно поворачиваться?! Он сам бы это сделал, но резать свою собственную голову все-таки рискованно. Латуну же такая операция почти не стоила бы усилий. Капелов напоминал ему об этом довольно часто. Но ничего не выходило. В последний раз Латун сказал: «Я занят, вы же видите, что я занят», — он действительно собирался куда-то. А в другой раз огрызнулся еще резче:
«Что вам торопиться! В Америку собираетесь, что ли? Вы же не уезжаете, и голова у вас на плечах, а не… гденибудь». Он чуть не произнес «в канаве», но в последнюю секунду, сделав над собою усилие, не напомнил ему про этот печальный, но, увы, достоверный факт.
Ненависть Капелова была остра. Известно ведь, что мы особенно ненавидим тех, кто сделал нам добро, но, так сказать, недоделал — как будто добро можно «доделать», как будто оно имеет границу… Увы, оно безгранично, как и зло, — вероятно, поэтому и обстоит так неблагополучно дело с человеческой благодарностью…
Однако ненависть Капелова к Латуну возникала вспышками и быстро потухала. Латун заметил волнение Капелова, его слезы и прыгающие губы и сказал:
— Надо будет как-нибудь исследовать вас и установить причину, отчего вы плачете в минуты эмоциональных давлений извне — от нервности, или у вас характер такой.
Но Капелов уже не плакал. Слезы от театральных или киноволнений, отчего бы они ни происходили — от расшатанной нервной системы или от свойства характера, — как известно, быстро высыхают.
Капелов с жадностью вглядывался в окружающую публику. Ему нравились люди — они пришли сюда такие чистые, вымытые, здоровые.
Его опять захлестнуло неодолимое желание писать стихи. Он достал из кармана тетрадку, которую всегда носил с собою, и начал писать, как и в прошлый раз, не зная, впрочем, что он пишет, стихи или прозу, и нисколько не интересуясь этим.
Вот что он написал:
«Гул людей.
Гул людей.
Что может быть прекраснее!
Массы!
Массы!
Что может быть прекраснее человеческих масс!
Прекрасного человеческого стада!
Как приятно,
сладостно,
опьяняюще
дыхание людей
чистое,
здоровое,
теплое,
пахучее!
Я слышу шуршание кожи.
Хруст сухожилий.
Поскрипывание скелетов!
Люди!
Люди!
Затянутые в белье и сукна — вы так же прекрасны, Люблю, вас!
Люблю ваши мышцы и вашу мякоть!
Цветущий жир!
Блеск волос и зубов!
Сияние глаз!
Голоса!
Изломы губ!
Согретый мех на женских платьях,
гордые белые шеи,
женские колени,
ах, эти колени!
и запах кожи высоких ботинок
на ногах девушек.
Люди!
Люди!
Что может быть благороднее мужской осанки, 148
как и голые!
цветения мужественности,
жаждущей опасности, безумия и риска!
От огня ваших глаз содрогается мир. Что может сломить вашу волю?! Ничто!
Как умно,
гармонично
и радостно
расположены на стульях тела,
как умно покоятся руки и ноги.
Великий покой!
Великий покой!
Но и в покое бьются сердца,
горит-кровь,
цветет сила.
Руки девушек чувственно шевелят пальцами. Красноватая кожа обтягивает их.
Их ноги двигаются под стульями в такт музыке. Они играют телами,
мускулами,
тканями,
кровью.
Нескромно расставленные ноги мерцают подвязками, бельем,
туго натянутыми нитками чулок.
Люди!
Люди!
Вот они сидят,
дышат,
живут!
Сколько процессов бродит в этих телах! Сколько мыслей,
желаний!
Они испаряются в теплом воздухе!
Воздух заполнен ими.
О, если б их расшифровать!
Люди!
Люди!
Они измышляют!
Они хитрят!
Чего только нет в этих круглых головах!
Но пусть!
Пусть!
Прекрасна ваша физиология! Ваша тяжесть!
Ваши сотни тонн!
Ваша хитрость!
Ваша жестокость!
Худенькие изящные девушки,
свободно сидящие с чуть раздвинутыми ногами,
вы знаете?
Вы сидите на трупах!
Ради вас,
вашего спокойствия,
В такт музыке!
вашего благополучия
на рассвете,
одинаково во всех странах,
казнят немытых,
заросших,
очень запутавшихся людей.
Вы сидите на трупах, девушки.
На трупах!
И вы мечтаете под музыку!
Под музыку!
Вы прекрасны!
Да здравствуют мужчины и женщины,
да здравствует человеческая молодость,
сила,
радость,
счастье
и жестокость
людей!»
Играли что-то сложное, но складное, со взвизгиваниями и многоэтажным, долго раскачивающимся и с большим трудом оконченным концом.
Латун слушал с явным удовольствием, прищурив глаза. Это было удачно. Он не обратил внимания на Капелова, тяжело дышащего и заносившего дикие каракули в мятую, лежащую на коленях тетрадку.
Кончив писать, он поспешно сунул ее в карман.
Латун продолжал наслаждаться музыкой. Это было странно, но многое было странно в этом человеке.
Наконец Капелов, решившийся проявить инициативу, вспомнил, что он должен быть «деловой фигурой», и сказал:
— Не пора ли нам поискать образец?
— Да, да. Пожалуй, — встрепенулся Латун. Он, видимо, устал. Взгляд его блуждал рассеянно, размягченно и равнодушно. — Вот такой подойдет?
Латун указал на молодого человека с косой шевелюрой и скучным носом. Молодой человек стоял в боковом проходе у ложи. На нем был щегольской костюм цвета бычьей крови и яркий галстук.
— Этот?
— Да, этот, — совсем сонно повторил Латун, равнодушно, но в то же время прозорливо разглядывая его и зевая. — Сделать его — совершенные пустяки. Стоить будет недорого. Паренек будет средний, но приличный. Нос сделаем поумнее. Это денег не стоит. Характер у него легкий. Немного вспыльчив, но добр, самолюбие первой степени, то есть не любит, чтобы ему перечили в мелочах. После одного года мелких ссор она научится угождать ему. Упрямство тоже небольшое. Ну, дома поскандалит немного — суп пересолили, котлеты пережарили. Ребенка будет любить. Об изменах жены не будет догадываться не хитер. Врать будет в меру, лет через шесть-восемь станет домоседом, будет играть в домино. Что еще ей нужно? На службе будут его любить: звезд с неба не хватает, милый человек. Таких любят. Ну, что? Хватит?