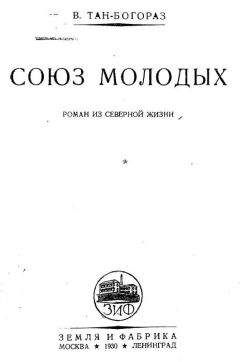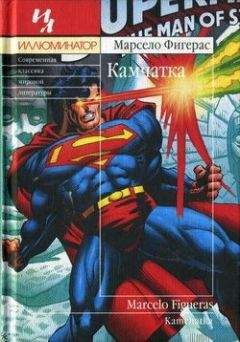Было ей вначале трудно. Она привыкла в три года жить за широкой спиной и крепкими руками Русака, а теперь приходилось опять работать за двоих. Но Дука справилась.
Соседи присматривались к ней и дали ей новое прозвище в придачу к прежнему: «Мужик-Баба». Дука, действительно, ворочала за бабу и за мужика. Впрочем, она так и осталась нелюдимой, с сестрами не говорила, а только отвечала на вопросы: «да», «нет», «возьми».
Мальчика она держала при себе и ходила за ним, как умела. Ночью придет из лесу, сварит, поест и мальчика накормит.
В те дни, как уехал Викентий Авилов, Дука сразу потеряла молоко и поневоле приходилось кормить мальчишку мясом. Впрочем, Викеша к мясу относился, как волчонок. На втором году у него был полон рот зубов. И в этом Дука отошла от своих соседок, которые кормили грудью детей до трех лет и дольше.
Покормит ребенка и положит с собою в постель. В изголовьях шкура Кровоеда, занапрасно убитой собаки, шкура медведя на полу. И начнет Дука разговаривать.
— Викентий! — плакала она громко, в голос. — Вернись! Куда ты ушел? Кровоед, кровь мою выпил! Мохнатое сердце!
Она как будто смешивала воедино убитого кобеля с бежавшим мужем. — Собака, другую завел!
Глаза ее гневно сверкали, и она готова была сдернуть топорик с крюка и выскочить за дверь на поиски за дальней соперницей. Долго потом помнил Викеша простоволосую мать свою с ее слезами и диким болезненным криком.
— Мохнатое сердце твое, желчь твоя медвежья! — бранила Дука отсутствующего мужа.
— И ты тоже, волчонок, медвежонок! — обращалась она к сыну. — Русская собака! Сердце мое дорогое!
И она хватала сынишку и душила его поцелуями.
Так шло год и два, а потом Дука утихла. Но мальчик рано начал понимать и разговаривать. Дука разговаривала с ним по вечерам, но более спокойно, и все об отце.
— Русак твой отец, из далекой земли. Пришел, забрал! Не сгодились мы ему. Бросил, утек! Как пришел, так и ушел, как летнее солнце. Русский орел, осилок. Нету другого такого и не будет никогда. Твердое сердце у него, как витое железо. Не здешнего корня, не ровня колымскому народу. Злое сердце. Руки кровяные, убойные.
— Ты тоже русак! — говорила она сыну. — Ты другой такой, Викентий ты, Авилов.
И вправду, не только именем, но и всем обликом, и соколиным глазом и гордой посадкой головы Викентий был весь в чужеродного отца. Но и теперь уже можно было разобрать, что не будет он столь грузен, и выйдет он более тонкий и более гибкий, не лось, а олень. Густою кровяное пиво злого русака смешалось с медовой брагой от вольной лесной пчелки и двойным букетом ударило в голову мальчику Викеше.
Так рос мальчик из года в год, оторвался от маминой сиськи и от маминой юбки и вышел на улицу, т. е. в глухой непроходимый лес, начинающийся от порога избы.
Северные люди телом вырастают медленно, а душою быстро. Ибо в условиях севера детства почти не бывает. Человеческий детеныш — это двуногий звереныш. И так же точно, как звереныш четвероногий, он научается рано терпению и хитрости, и голоду, и также убийству. Убийство — это промысел. Если не убьешь, не поснедаешь. И недаром чукотская сказка рассказывает твердо установленными типичными словами: «Сделал себе (мальчик) лук и маленькую стрелку. В первый день убил трясогузку, зажарил, съел. Во второй день убил куропатку, зажарил, съел. В третий день убил гуся, в четвертый день — лебедя, в пятый день — оленя, в шестой день — тюленя. В седьмой день стал убивать всякую живую тварь, сделался великим промышленником, кормил целый поселок, оброс и обложился запасами».
Таким же ранним охотником сделался Викеша Казаченок и так же переходил от малого к большому, умножая и разнообразя добычу.
Шести лет отроду он принес матери первую куропатку, пойманную в силок. Куропатка была живая, так как он и не подумал свернуть ей шею. Впрочем, куропатка замерла от страха и лежала в руке его смирно.
Викеша поднес ее матери и потом ее же упросил не убивать куропатку, а выпустить ее.
— На! — сказала Ружейная Дука. — Пускай летит!
Куропатка охромела от силка. Хромая, пошла по дорожке и нырнула в ерничные[13] заросли, только и видели ее. После того жители нередко встречали ее в кустах на городской площади. Даже прозвище дали ей: Аксинья Хромая. Налетных куропаток в городе было сколько угодно, но местная живая куропатка, с именем, с правами городского оседлого жителя, была в новость. У охотников рука не поднималась убить ее. Даже собаки держались с куропаткой как бы на почве вооруженного нейтралитета:
«Ты не долби меня, и я не укушу тебя!»
Рядом с куропатками и зайцами мысли мальчика постоянно были заняты отцом. Какой был отец? Русак, с косматыми руками, огромный, как лесина. Русые волосы и глаза голубые, или серые, как у него самого, у Викеши. Он, разумеется, не помнил отца, но представлял его себе явственно.
Мальчик нагибался порою над спокойным ручьем и словно искал в его недвижном зеркале этот загадочный образ.
Видел мальчик такого, как Викеша, прибавлял ему мысленно роста и веса, грудь расширял, привешивал к гладкому лицу пушистую бороду — выходил совсем настоящий отец, как две капли вылитый. Но в то же время без сомнения это был мальчик — Викеша. Образ двоился, отходил и просыпался в его собственной груди.
Он перебирал вещи Викентия Авилова, огромную парку, сапоги с подковами, похожими на конские копыта. Непонятные книги, которые не мог бы прочитать даже главный городской грамотей, Олесов Никола. Рассматривал картинки, четкие и мелкие, но понятные без слов.
— Учись! — оказала мать. — Ты от ученого кореню.
И он самоучкой просиживал над толстыми томами, тщетно стараясь подыскать себе ключ к их таинственной мудрости.
Без помощи дьячка, городского учителя, выучился Викеша русской азбуке и уже шести лет мог вычитывать из книги многое простое, крупное, прямое. Азбуку ему прочитал старый одинокий поселенец, Зотей Жареный, и тем и закончилась его грамота.
Но чаще всего Викентий разговаривал с отцом теми же сердитыми словами, подслушанными у матери.
— Оставил нас, собачья морда! — говорил он мысленно отцу. — Тебе хорошо, а нам, небось, маяться!..
— Все равно, я найду, я догоню! Не уйдешь руки моей! Мой меч булатный прольет твою жаркую кровь! — говорил он сказочными словами, как разговаривали богатыри, украшенно и величаво.
Восемь лет было Викеше, когда мать его погибла на тюленьем промысле.
В тот год на Веселой был опять недолов рыбы и призрак голода обрисовался над плотскими избами. Рыбаки уходили на дальные озера за чиром, охотники бродили по лесам, на поисках за лосями, но и лоси куда-то исчезли. Скудность стояла по всей реке до самого устья. Но за устьем начиналась новая ожива, охота на взморье на мелких и крупных нерпей, которые подплыли к берегам на обломках ледяных полей, прибитых к берегу северными ветрами.
Вместе с другими ушла за нерпями и Дука и на этот раз взяла расписную нарту своего русского мужа и его резвую двенадцатиголовую упряжку. Упряжку взяла, но домой не вернула и сама не вернулась.
Товарищи по ловле рассказывали: дунул хиус[14] с юго-запада, унесло ледяные поля в голомянную ширь, чуть сами не потонули. С лединки на лединку перескакивали, собак переводили бродом и почти вплавь, все же перевели. А Дука была дальше всех и она не успела вернуться.
Вот с этого черного дня Викеша перестал думать об отце Русаке и думал о матери. Она снилась ему даже по ночам, в надледной беде, знакомой всем северным промышленникам.
Льдину откололо и вынесло в море. И собаки жмутся на закраине и воют жалобно. А Дука забила в застругу поглубже гарпун, привязала его ремнями спереди и сзади, как мачту, и сама привязалась за пояс к гарпуну, и стоит, крепко держится за эту последнюю жердь, как за якорь спасения. Волны налетают и бьют через льдину и через голову Дуки. Вся она мокрая насквозь. Одежда ее мерзнет, и Дука коченеет.
— Викеша! — зовет она холодными устами. — Мой маленький Викеша!
Она отнимает руки от жерди-гарпуна и протягивает их вперед, и будто летит и падает и исчезает.
Так гибнут на страшном океане морские звероловы из году в год, от весны до весны. И так погибла Викешина мать, Ружейная Дука Щербатых.
Викеша забыл ее настоящее лицо и помнил только этот странный мелькающий образ, женщину с протянутыми руками, летящую над бешеной пеной.
После Дукиной гибели Щербатые Девки совсем упали духом.
За упряжку и нарту Павел Матвеич, приезжий торговец с реки Индигирки, давал без спору три тысячи сельдей да три пуда жирной толкуши из отборных сигов, чаек, табачок. Такого запаса хватило бы безбедно до нового лета и нового промысла. Было бы и пить и курить. Теперь не было у них ни Дуки, ни собак, ни запаса.