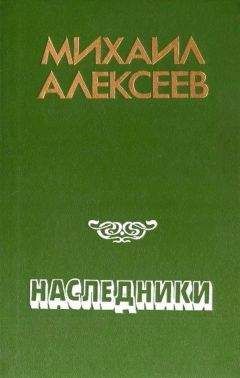Об этом все думали, но молчали: уж очень тяжек был бы такой разговор…
Однако как ни мал человек, но и он рано или поздно отыщется в великом и бурном людском океане, не останется в конце концов безвестной отдельная судьба, где-то выйдет на поверхность нить, по которой будет разгадана тайна его исчезновения…
Филипчука обнаружили пехотинцы соседнего соединения во время разведки боем, произведенной в дневную пору, когда неприятель меньше всего ожидает нападения.
Проколотый немецкими штыками, лежал он вниз лицом в небольшой ложбинке, а над ним было высокое-высокое родное небо да кружился ворон, так и не решившийся опуститься на растерзанное тело русского воина. Пехотинцы осторожно перевернули его вверх лицом и увидели между полуоткрытых губ, в плотно сжатых зубах, не то кусок кляпа, не то кусок глины. С трудом разжав мертвый рот, они вытащили комок и только тогда поняли, что это не кляп, не глина, а изжеванный комсомольский билет…
Потом они нашли за отворотом пилотки крохотный листочек — с номером билета, с фотографией и фамилией убитого, с печатью и подписью Парамонова…
А потом увидели в виске пулевое отверстие. Поискали вокруг и нашли в траве уже покрытый ржавчиной пистолет ТТ.
Вот и все. В дивизионке о Филипчуке появилась заметка за подписью А. Крупецкова. В ней не было подробного описания подвига. Его свидетелем был только враг, но враг уничтожен. Так что нет свидетелей… И видимо, Крупецкову не хотелось бедной своей фантазией и неточным описанием оскорблять и сам этот подвиг, и память совершившего его. Добавим лишь, что найденный за отворотом пилотки листочек, проделав долгий и извилистый путь по штабам и политотделам, добрался наконец до Саши Крупецкова, и тот уже не расставался с ним до конца войны.
— А после войны, — тихо и взволнованно говорил он нам, — мне бы очень хотелось отыскать этого Парамонова… Я б ничего не сказал ему. А просто обнял бы его… и все. Какой он из себя, этот Парамонов, как вы думаете?..
Подхлестнув свое не очень-то богатое воображение, мы начинали рисовать на свой лад образ безвестного нам секретаря райкома ВЛКСМ. У каждого из нас он, разумеется, получился свой и по-разному большой и хороший человек, но у Юрки Кузеса — самый красивый и добрый.
Изменился малость и Саша Крупецков. Не столь уж часто бывали теперь озорными его дымчатые, широко поставленные глаза. Вручая комсомольский билет, он уже степенно и четко выводил свою подпись, подолгу всматривался в лицо нового комсомольца, как бы стараясь запомнить на всю жизнь, и не спешил уходить от него.
Один раз он услышал, как кто-то в соседнем окопе проговорил:
— А мне сам капитан Крупецков вручил билет!..
Вернувшись к себе, Саша долго не мог найти места: хотелось что-то немедленно сделать, куда-то пойти, что-то совершить… Но он ничего нового и необычного так и не придумал.
Как и всегда, взял свою сумку и быстро зашагал в сторону переднего края.
Помнится, вскоре мы получили от него великолепную корреспонденцию.
Дивизия с боями продвигалась на запад. Но постепенно выдохлась и получила приказ остановиться на занятых рубежах и привести себя в порядок — пополнить роты, в которых оставалось по двадцать-тридцать активных штыков, а в некоторых и того меньше, подтянуть тылы, подвезти боеприпасы, помыть солдат в бане и вообще отдохнуть.
Штаб дивизии и политотдел расположились в большом украинском селе, в каких-нибудь трех-четырех километрах от переднего края.
«Хозяйство» Шуренкова выбрало для себя небольшую беленькую хатку, ласково встретившую нас тщательно протертыми мокрой тряпкой, сверкающими на солнце, как бы улыбающимися окнами. В хате проживала небольшая семья: пожилой и очень пасмурный с виду мужчина и две взрослые его дочери — Оля и Настенька. Глядя на них, уже нетрудно было догадаться, кому обязана хатка своей чистотой и уютом, кто убрал ее к нашему приходу. И тут случилось именно то, что и должно было случиться. Всем нам вдруг показалось, что на земле наступили мир, покой и тишина. И все мы вдруг сделались не в меру словоохотливыми, болтали без умолку. Побуждаемые древним инстинктом — во что бы то ни стало устранить вероятного соперника, — каждый из нас острил, подсознательно старался елико возможно поддеть товарища, высмеять его, принизить, а самому выглядеть в лучшем, выгодном свете. При этом никто из нас не смотрел на девушек, словно бы они были тут ни при чем, хотя Оля и Настенька преотлично знали, что из-за них-то и началось это петушиное состязание.
Первый вражеский снаряд упал посреди улицы, прямо напротив нашей хаты, среди ослепительно ясного дня. Сначала девчата увидали высоченный сизо-коричневый султан дыма, мгновение одно подивились ему, затем взвизгнули, и крик их слился с грохотом разрыва, со звоном брызнувших на пол, на лавку, на стол осколков стекла. Бледные и оттого еще более похорошевшие, Оля и Настенька выскочили во двор и скрылись в мазанке. А их батька сидел у порога, не меняя позы. С самого утра он только и делал, что сосал свою вонючую трубку да поглядывал на то, как наборщики устраивались со своими реалами, а нам думалось, что хозяин сторожит своих дочерей, и мы потихоньку злились на него.
— Отец, нет ли у вас какого-нибудь погреба? — спросил я, вспомнив о радиоприемнике, являвшемся едва ли не самой ценной вещью в редакционном хозяйстве. Случись что худое с этой металлической голубой коробочкой, дивизия не получит очередной сводки Совинформбюро, не узнает, кто отличился в последних боях, вообще не узнает ничего из того, что произошло в последний час в огромном и взбаламученном войною мире. Поэтому первое, что делал шофер Лавра, на которого были возложены и обязанности радиста, — это рыл небольшой погребок, устанавливал там радиоприемник, прикрывал сверху для маскировки пятнистой трофейной плащ-палаткой, а потом натягивал на какой-нибудь куст антенну… Сейчас Лавра уехал в автороту за бензином, и заботу о приемнике мне пришлось взять на себя.
— Ну так что же с погребом, отец? — переспросил я, видя, что старик не спешит с ответом.
Хозяин подозрительно и даже испуганно глянул на меня.
— А зачем он вам, сынку?
— Приемник укрыть.
— В мазанке погреб… Пидем за мною.
Я взял под мышку приемник и пошел вслед за хозяином.
— Ось туточки, — указал он на крышку погреба и вдруг грубо и злобно позвал: — Ольга! Настька!.. А ну, марш видтиля!
Девчата, точно суслики, повыскакивали из своей норы и убежали в хату.
Я осторожно спустился в погреб. На дне его на перевернутой кадушке горела коптилка. Я удивился, что не было здесь того гнилостного духа, какой бывает обычно в погребах, подвалах, бункерах, а веяло чуть внятным, нежным и тревожным запахом девичьей горенки. Глаза постепенно освоились с полумраком, и я увидел чистенько прибранную кровать, вазочку с бледно-розовыми цветами в нише над изголовьем, вышитый рушник на спинке кровати, а на земляном полу, посыпанном белым песком, лежал дерюжный коврик; на стенке висело светлое ситцевое платьице, все в больших синих горошинах.
С вечера до поздней ночи я принимал специальные передачи из Москвы для фронтовых газет, а Настенька сидела рядом на кроватке и спокойно ждала, когда я закончу свое дело и оставлю ее одну в погребе: ночевать наверху, в хате, Настенька боялась да, видать, уж и привыкла к своей подземной келейке. Ей, по-видимому, нравилось сидеть так и слушать, как из голубой маленькой коробки медленно текут звуки обыкновенного человеческого голоса.
— Чудно-то как! — шептала она и беззвучно смеялась.
Я очень опасался, что диктор с его пренудным «Иваном кратким» и «тремя звездочками абзац-абзац» надоест Настеньке и она перестанет спускаться в погреб в часы приема радиопередач. Мне было хорошо, когда рядом находилась Настенька; я то и дело оглядывался, чтобы встретиться с ее влажно блестевшими в сумеречном свете, немножко испуганными, как бы чего-то ждущими глазами.
Так прошла целая неделя. Я и Настенька чувствовали, что с каждым днем нам было все труднее расставаться.
Ослепленные своим счастьем, немые и глухие ко всему, что не касалось нас двоих, мы совсем забыли, что на свете есть другие люди, а среди них бывают разные, хорошие и нехорошие, что они могли за нами следить: давно известно, что влюбленные — страшные эгоисты, им всегда кажется, что раз они счастливы, то должны быть счастливы и все остальные. Не этим ли наивным заблуждениям человечество обязано многими своими трагедиями?
Поутру я отправлялся на передний край, в солдатские окопы, за материалом для своей крохотной, но довольно прожорливой газетки — так пчела каждый день вылетает из улья для сбора нектара. Для Настеньки это было самое тяжелое время: ей все думалось, что меня там могут убить или ранить. Но зато каким праздником было для нее мое возвращение!