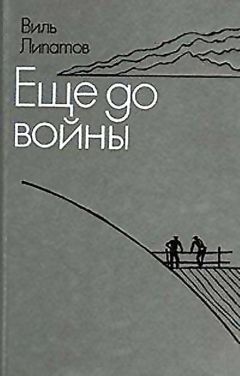Широкий переулок был тесен Цыпыловым, хотя они ехали гуськом. На Борисе были светлая тенниска и белые шорты, так же была одета его жена, мальчишки щеголяли в красном, а Наташа имела на бедрах только узенькие полоски плавок. Все они были такие загорелые, что вспоминался плакат «Отдыхайте на Южном берегу Крыма!». Велосипеды под Цыпыловыми не скрипели, не скрежетали цепями, трава под колесами была ровной и мягкой, и почему-то казалось, что десять медленных солнц скатились с верхотинки тайги, оттуда, где белел кружевной кокошник.
Спрятавшись за поседевшие от жары тальники, четверо, не мигая, смотрели на Цыпыловых. У Витьки Малых было точно такое лицо, с каким глядел он на чаек и белый пароход, когда говорил протяжное: «Поле-е-ете-ли!», «Поплы-ы-ли!» И когда Цыпыловы проехали мимо тальников, Витька протянул:
– Поеха-а-а-ли-и-иии!
Тупо и бессмысленно, потеряв собственное выражение лица, глядел на велосипедистов Устин Шемяка. Он видел, что Цыпыловы появились из белого и зеленого, чувствовал, что кружение спиц ослепляет, но реального объяснения происходящему дать не мог, так как понятия «отдыхают», «катаются», «развлекаются» были для него такими же туманными, как слово «гемоглобин» в справке, которую он недавно принес с медицинской комиссии. И по мере того как велосипедисты приближались, на лице Устина Шемяки окончательно затвердевала одна мысль, одно выражение.
– У Цыпылова в кране четверть спирта, – сказал Устин, когда велосипедисты проехали. – Чего-то там промывать… Второй год стоит нетронутая!
И в этом для него излилось все то яркое, праздничное, счастливое и свободное, что катилось по травушке-муравушке десятью слепящими солнцами.
Волновался, нервничал, полыхал болезненным румянцем Ванечка Юдин – невольно для себя ссутуливался, втягивал голову в плечи, светлые глаза Ванечки стекленели, проникались бутылочным цветом, приобретали неживой блеск, словно он засыпал с открытыми ресницами. Когда Цыпыловы проезжали мимо тальников, рука Ванечки сделала в пустоте резкое хватательное движение, но тут же обвисла.
Семену Баландину казалось, что он едет на новеньком бесшумном велосипеде… У него были длинные загорелые ноги, обутые в кеды, плечи мягко обнимала тенниска, позади ехала женщина, пахнущая солнцем; пальцами ног он давил на тугие и сладостные педали, на руле велосипеда сам собой дребезжал звонок.
Потом Семен Баландин увидел себя сидящим в низком и удобном кресле с газетой в руках. Читать газету!… Медленно развернуть шелестящие страницы, вдохнуть запах типографской краски! Газету можно свернуть пополам, можно сделать из нее узкую полоску, можно положить перед собой на стол… Едут куда-то премьер-министры; нападающие, обыграв защитников, забивают гол; через подмосковное шоссе переходит дикий лось… Семен Баландин крепко зажмурился, опустив голову, старался прогнать видение белого газетного листа, ощущение прохладности от бумаги…
Когда Цыпыловы проехали – перестало веять теплом от кружения велосипедных спиц, – Баландин встряхнул головой, открыл глаза.
– Пошли к Медведеву! – сказал он. – Скорее пошли к Медведеву!
Дом рамщика шпалозавода Медведева походил на скворечник. Был он высоким и узким, удлиняя строение, на крыше торчали две антенны, окна были маленькими, подслеповатыми, словно хозяин не любил яркого света; огорода при доме не имелось, и на том месте, где он должен быть, паслась комолая корова с громким боталом на шее. Жилище рамщика располагалось несколько в стороне от улицы, видимо, нарочно было повернуто окнами на несуществующий огород, и по этой причине дом стоял как бы отдельно от деревни, но вместе с тем возвышался над другими домами своей колокольной высотой.
– Давай, давай, Семен Василич! – шепнул пересохшими губами Устин Шемяка. – Чего зазря-то стоять?
Скоро они уже поднимались на высокое крыльцо. Крыльцо и сени были совсем глухие, толстостенные, здесь было так глухо и темно, что приходилось чиркать спичку, искать друг друга в темноте растопыренными руками.
– Осторожней, народ, осторожней!
Посередке высокой горницы стоял чудовищно громадный кедровый стол, обставленный полдюжиной титанических табуреток, слева высился самодельный посудный шкаф с маленькими окошечками на створках, похожими на глазки в тюремной двери, три стены опоясывали кедровые скамейки двадцатисантиметровой толщины. В горнице было еще глуше, чем в сенях, тишина здесь звенела и обволакивала паутиной мертвого безмолвия, возникало чувство, словно человек спустился в глубокий колодец.
И таким же приглушенным, подземельным был человек, сидящий за столом. У него была толстая, тяжелая голова, глаза за увеличивающими стеклами очков были велики и тоже толсты. Негромко ответив на приветствие нежданных гостей, Прохор Медведев отложил в сторону газету, сняв очки, помассировал пальцами веки.
– Теперь вы сделайте так, граждане, – подумав, сказал он. – Потрите ноги об тряпку да садитесь-ка на лавку, чтобы я вас всех мог видеть. А ты, Семен Василич, садись подле меня… Вы садись, садись на лавку, пьяный народ! Бог стоячего человека только в церкви любит…
Рамщик Медведев внимательно оглядел гостей большими дальнозоркими глазами, поразмыслив, свернул газету на восемь долек, прогладил ее по сгибам и положил по левую руку от себя, так как очки лежали на правой стороне. После этого он с легкой улыбкой постучал ногтями по глухой кедровой столешнице, еще раз поразмыслив, задумчиво сказал:
– Я тебе завсегда рад, Семен Василич. Ты у меня – желанный гость. Вот и садись на хорошее место, займай стул по чину, а остальной народ пусть на лавочке обретается… Вот такое дело, граждане-товарищи! Я тебе, Семен Василич, еще больше скажу… На улке дожж, грязь, молонья, ты ко мне иди! Обишко все вкруг себе облила, рыбешки нет, зверь в далечину подался – ты ко мне иди! Шпалозавод сгорел, в народишке мор, война поближе – ты ко мне иди!…
В глухой, темной комнате, на фоне титанической мебели стояли на тонких ножках дорогой радиоприемник «Рига» и лучший из лучших телевизор «Темп-6»; оба агрегата были прикрыты тонкими кружевными салфетками, на салфетках стояли вазы со свежими цветами, а прямо перед глазами рамщика Медведева, между очками и газетой, проливал тихую музыку «Маяка» транзисторный радиоприемник «Спидола», протертый до блеска фланелевой тряпочкой, которая лежала за радиоприемником и для удобства пользования, чтобы не махрилась, была обшита темной каймой.
– Ты завсегда ко мне заходи, Семен Василич, – задумчиво продолжал рамщик, прислушиваясь к сладкой музыке из транзистора. – Я тебя водочкой завсегда угощу, хороший ты человек, но пошто, спрошу тебя, должон я вот этих нахлебников поить на свои кровные?… Вот ты мне на это ответь, мил друг Семен Василич!
Произнося эти медленные, задумчивые слова, рамщик Медведев поднялся с места, выпрямился, и сделалось видно, как он до смешного непропорционален: при большой, толстой голове у него было тщедушное, маленькое тело, тонкие ноги, узенькие бедра и отдельные от всего этого руки, которые, как и голова, могли принадлежать только телу другого человека – такие они были большие и сильные. Эти руки заросли темными вьющимися волосами, мускулы на них не перекатывались, не двигались, а лежали каменными буграми, металлическими литыми извивами; свои удивительные руки тщедушный рамщик держал по-обезьяньи широко.
– Ежели ты мне не отвечаешь, Семен Василич, пошто я должон этих нахлебников поить, то я тебе сам на это отвечу, – продолжал рамщик Медведев, подходя к шкафу с тюремными глазками. – Я их по той причине пою, Семен Василич, что они с тобой всю пьяную дорогу обретаются и на тебя, Семен Василич, своего рубля не жалеют, как ты завсегда без денег…
Он замолчал. Солнечные лучи в горницу проникали осторожно, упав на некрашеный пол и неоштукатуренные стены, приглушались до оранжевости; толстые кедровые стены не пропускали ни звука, высокий потолок вместо того, чтобы делать комнату просторнее, окончательно впитывал в себя остатки пространства. В этой беззвучной, глухой тишине подземелья рамщик Медведев неслышными пальцами открыл неслышную дверцу кедрового шкафа, достал хрустальный графин, тоже неслышный и с неслышной пробкой, и понес его к столу.
– Варвара, а Варвара! – не повышая голоса, позвал Медведев. – Надо бы закуску сгоношить, Варвара.
В боковой комнате послышались приглушенные шаги, зашуршала материя, и в горнице появилась сестра хозяина – высокая женщина в длинном монашеском платье и черном, глухом платке. Она молча подошла к гостям, сложив пальцы лодочкой, почтительно и с приятной улыбкой подала каждому руку, а Семену Баландину поклонилась в пояс, но руку подать не решилась.
– Спасибо, что зашли, Семен Васильевич! Не забываете нас.
Жена рамщика Медведева погибла в годы войны, детей у них не было, и вот уже около двадцати пяти лет Прохор Емельянович жил с сестрой. Они были дружны и согласны, сестра работала медсестрой в поселковой больнице, дом Медведевых считался одним из хлебосольнейших в поселке. Рамщик зарабатывал около четырехсот рублей в месяц, сестра получала шестьдесят и пенсию за мужа, погибшего на фронте.