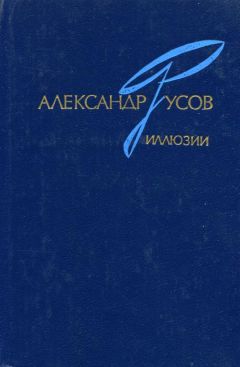Вот и ребят подвел. Бежал в трудное для всех нас время. От Южного бежал, а ребят бросил. Может, предав однажды в детстве, не оплатив детские наши долги, мы с еще большей легкостью, будучи взрослыми, отступаем от собственных идеалов, объясняя внешними, не зависящими от нас обстоятельствами собственные наши падения? Я представил себе маленького Сашу Мягкова, бросающего камень. Коротко разбежавшись и сжавшись в комок, словно для того, чтобы вместе с камнем пролететь добрых шестьдесят метров, он едва заметным движением, чудом оставшись на земле, посылал его в небо.
— Ты зашел бы к нам, — сказала Наташа. — Заодно посмотришь остальные работы.
— Как-нибудь в другой раз.
Нет, мне было уже не понять, как десять лет назад из-за этой женщины я мог испытать нечто сходное с тифозной лихорадкой, болезнью довольно диковинной для жителя большого города, но тем не менее реальной, как и больница на Соколиной горе, специализирующаяся на редких инфекционных заболеваниях. Бред, галлюцинации, высокая температура. Несколько дней подряд я решал заведомо нерешимую задачу — рассчитывал, сколько потребуется неопределенной величины кубов для того, чтобы заполнить все пространство голубой в предрассветной мгле больничной палаты. Был уверен, что схожу с ума.
Если же разобраться, источник страданий ничтожен: вы всего лишь выпили воду, загрязненную бациллами, которых можно увидеть только в микроскоп. Вас бросило в жар, у вас лихорадка. Словом, человеку присуща болезнь, как говаривал иезуит Нафта, она-то и делает его человеком. Но вот жар спадает, вы встаете с постели, выписываетесь из больницы…
Дверь в комнату отворилась.
— Вы здесь? — спросила мама. — А я искала. Как тебе понравились Наташины вещи? Она, к сожалению, не хочет серьезно работать.
— Не надо, Маша. Он и так ко мне плохо относится, стал воображалой. Говорит, что девочки его больше не интересуют.
— Сугубо положительный человек. Весь в своего отца.
— Ладно, — сказала Наташа, — я, пожалуй, на время покину вас. Еще увидимся.
Мы остались вдвоем. Я подошел к диванчику, над которым висела гипсовая театральная маска. Какой страх нагоняла она в детстве, какие жуткие навевала сны! Искривленный гримасой рот, пустые, печальные глаза, а теперь — посеревший от времени и покрытый густым слоем пыли, ничего не выражающий кусок гипса.
— Наташка хорошая, добрая, — сказала мама, — талантливая очень, но дура. Впрочем, ей, как и мне, не повезло, — мама равнодушно махнула рукой куда-то назад, словно отмахиваясь от назойливой, постоянно преследующей ее мысли.
Вечером, поднимаясь на второй этаж по крутой деревянной лестнице нашего лукинского дома, я вспоминал комичное лицо сестрички. После каждой выпитой нами с мамой рюмки она бежала наливать воду в свою, истово чокалась и манерами до того напоминала Голубкова, что невозможно было наблюдать за ней без улыбки. На повороте я споткнулся и чуть не упал, прогромыхав на весь дом. Бабушка испуганно вскрикнула.
— Все в порядке, — сказал я, перегнувшись через перила сверху вниз, откуда слышался перезвон вытираемой посуды и мамин саркастический смешок. Она решила, что я пьян.
Последняя ступенька означала преддверие рая.
Я потянулся к выключателю и зажег в коридоре свет. Стены сплошь были расписаны гуашью и темперой, и левая отсвечивала зеленым стеклом аквариума. Вода вкатывалась в открытую дверь дальней комнаты, и две фигуры, мужская и женская, два человека-амфибии скользили в океанских глубинах. Там, где их тела соприкасались с водой, возникало розовое свечение. Эти двое должны были вплыть в комнату, но почему-то медлили вот уже восемь лет, и временами мне начинало казаться, что они плывут против течения и потому остаются на месте.
Эта роспись — мамин подарок на нашу с Катей свадьбу, которой, собственно говоря, не было отчасти из-за того, что мама считала ее преждевременной, но в основном, я думаю, потому, что момент, когда она могла стать праздником, был упущен. Тем не менее после свадебного путешествия, вернее после первой совместной поездки на юг, нас, еще не отмытых от морской соли, встретили эти двое, вплывающие в мою комнату, которую с тех пор стали называть н а ш е й комнатой.
Мне не хотелось идти туда. Комната была слишком большой и, пожалуй, самой неуютной в это сумеречное время дня, а старая мебель — этажерка с книгами, продавленное горбатое кресло и кровать — казалась взятой напрокат из другой, чужой мне теперь жизни.
А по правой стене навстречу плывущим шла женщина с девочкой за руку. В перспективе коридора и темного дверного проема их путь казался бесконечным. На женщине был прозрачный хитон, курчавая обнаженная девочка шла чуть позади, держась за материнскую руку и перебивая своими маленькими шажками ее грациозную, танцующую походку. Я удивился сохранности красок на сухой штукатурке — пять лет прошло с тех пор, как мама писала эту композицию, пять неотапливаемых на втором этаже зим и оттаивающих сырых весен.
Тогда она ждала девочку — сын уже был взрослый, почти женатый, эгоистичный, как все мужчины, а девочка — другое дело, девочка ближе матери, так же как она своей — и несправедливая судьба должна улыбнуться ей хотя бы на этот раз. Судьба улыбнулась. По правой стене шли двое, и двое уплывали прочь по левой стене, безответные, безучастные ко всему, готовые исчезнуть в темном провале двери, замыкающем круг с одной стороны, а где-то за спиной круг должен был вторично замкнуться. Он замыкался третьей композицией, которая и была рай.
Мама расписала эту наружную стену своей летней мастерской недавно, но я уже видел ее в прошлый свой приезд: Адам и Ева в раю на фоне ярко-зеленой плодоносящей яблони. Ева протягивает Адаму яблоко — настоящий штрейфлинг, словно только что принесенный из нашего сада в те времена, когда в нем хозяйствовал мой отец. Округлая, стройная Ева бесцеремонно протягивала Адаму яблоко; змей, обвивший дерево, был понятым, и в тишине, почти не нарушаемой далекими голосами внизу, я готов был услышать его искушающий шепот и сразу вспомнил улыбку Н. С. Гривнина. Дьявол выступал здесь представителем той известной силы, которая творит добро в твердом намерении совершить зло. Адам — стушевавшийся, робкий, застыл в неживой, почти скульптурной позе как атрибут библейской сценки, а не ее первый участник.
В этой композиции проявилась вся мамина суть с ее культом матриархата, властным характером и вместе с тем горячим желанием быть «только женщиной, Андрей. Мне надоело… Хочу быть слабой, закрепощенной женщиной. Но о чем говорить? Все Адамы одинаковы — беспомощны, слабы и эгоистичны. Да и мы хороши. Кормим этих негодяев свежими фруктами!».
Ева насмешливо смотрела на плывущих, на женщину с девочкой, все понимала, как подачку протягивала Адаму яблоко и царила.
Я заглянул в мамину мастерскую, летнюю комнату на втором этаже с тремя застекленными стенами и почувствовал знакомый смешанный запах красок, скипидара, клея и грифелей.
(Когда я хочу вспомнить что-либо касающееся жизни в Лукине, то прежде всего вспоминаю этот запах, потому что он начало начал. От него идет все остальное: сад, Дом творчества и далекий гудок поезда в ночной тишине, когда спишь на веранде с открытыми окнами под молчаливое раскачивание сосен и звезд.)
У глухой стены стояло несколько полок с книгами. Три тяжелых тома «Истории искусств» Гнедича с золотистыми корешками переплетов, альбом Фаворского, маленькая открытка с «Атрибутами искусств» Шардена, а рядом — испачканный красками серо-зеленый диванчик, такой же, как в комнате отдыха оформительского цеха.
На диване лежала пачка рисунков фломастером. («Должно быть, варианты эскиза панорамы», — подумал я.) Дома, крыши, скользящие вертикали подъемных кранов, автомобильные фары, улица, снова улица, вывески, толпа. Десятки городских ликов, сюжетов, фрагментов были нарисованы именно здесь, в маленьком, окруженном соснами доме.
Мамины фантазии. Мечты сельского жителя о большом городе. Если бы тогда, еще до войны, студентка архитектурного института, уроженка Москвы Маша Турсунян не приехала в Лукино на каникулы и не встретила бы здесь моего будущего отца, ее жизнь сложилась бы иначе. Не думаю, что при ином стечении обстоятельств она бы осталась жить и работать здесь. Последние ее эскизы окончательно убеждали меня в этом. Новый город, который мама посещала редкими наездами, был на рисунках как бы скорлупой, а под нею угадывались черты старой Москвы. Я помнил ее довольно смутно, однако безошибочно узнавал в маминых работах. Но и в этой скорлупе содержалось больше открытий, чем любой ее житель мог бы обнаружить в натуре. Мама была прирожденным художником, и, конечно, художником городским. Во всяком случае, мне не приходилось видеть у нее столь удачных сельских пейзажей. Следовательно, решил я, мамина жизнь в Лукине была своего рода затворничеством, жертвой. Кому она принесла ее — моему отцу, бабушке, мне?