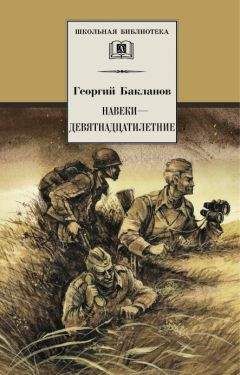Они стояли в окопе все трое, глядели в сторону немцев. Из поля подсолнухов впереди плеснулась земля, обвальный грохот сотряс все, и с этой минуты грохотало и тряслось безостановочно, а над передовой стеною подымались вверх пыль и дым. И, оглушая, звонче всех садила батарея дивизионных пушек, стоявшая позади их окопа.
Вдруг ширкнуло над головами низко. Пригнулись раньше, чем успели сообразить.
– Связь проверь! – крикнул Третьяков, сознавая радостно: жив!
Опять визгнуло. Били по батарее. Откуда – не разглядеть: все впереди в дыму. И в дым с ревом пронеслись наши штурмовики, засновали в нем черными тенями: перед их крыльями сверкало. Казалось, там, впереди, они стремительно снижаются к полю. Мелькнули над крышами фермы – из крыш взлетело к ним несколько взрывов.
Еще грохотало и рушилось, а все почувствовали, как над передовой словно сомкнулась тишина. Вот миг, вот она, сила земного притяжения, когда пехота подымается в атаку, отрывает себя от земли.
– Ррра-а-а! – допахнуло стонущий крик. И сразу треск автоматов, длинные пулеметные очереди.
Выплеснутые из окопов наружу, согнутые, будто перехваченные болью, бежали по полю пехотинцы, скрываясь в пыли разрывов, в дыму.
Когда они трое, волоча за собой по полю телефонный кабель, спрыгнули в траншею, пехота уже мелькала впереди в подсолнухах.
Поразило, как всякий раз в немецкой траншее: била, била наша артиллерия, а убитых немцев почти нет. Что они, уволокли их с собой? Только рядом с опрокинутым пулеметом лежал мертвый пулеметчик.
В следующий момент все они трое повалились на дно траншеи. Лежали, прикрыв головы руками, чем попало. Суяров навалил катушку на голову, отползал в сторону. Переждав налет, Третьяков приподнялся. Немецкий пулеметчик, тепло одетый, в каске, в очках, все так же лежал навзничь в траншее, как кукла увязанная. Слепо блестели запыленные стекла очков, целые, не треснутые даже; белый нос покойника торчал из них.
Сел Кытин, отплевываясь – в рот, в нос набилась земля. Удушливо пахло взрывчаткой. Низко волокся дым. По одному выскочили из траншеи. Уцелевшие подсолнухи на поле, ярко-желтые в дыму, все шляпками повернуты им навстречу: там, позади, всходило солнце над полем боя.
Лежа на спине, Третьяков пригнул тяжелую шляпку подсолнуха. Набитая вызревшими семечками, как патронами, она выгнулась вся. Смахнул ладонью засохший цвет, отломил край:
– Пошли!
Кинул горсть семечек в рот и бежал по полю, выплевывая мягкую, неотвердевшую шелуху.
Он издали заметил этот окопчик – между подсолнухами и посадкой.
В сухой траве впереди него ползала пехота. Чего они там ползают? Бой уже к деревне подкатился, а они тут ползают. Но окопчик был хорош, из него все поле открывалось. Третьяков махнул ребятам:
– По одному – за мной!
И побежал, вжимая голову в плечи. Несколько пуль визгнуло над затылком. Спрыгнул в окоп. И тут же – пулеметная очередь поверху. Выглянул.
В траве, вихляясь, полз Кытин. Прикладом автомата заслонил голову, катушка провода на спине, как башня танка.
Один за другим они ввалились в окоп. По щекам – черноземные потеки пота. Сразу же начали подключаться.
Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве: пулемет положил ее на этом поле и держит. Подымется голова, пулемет шлет из посадки длинную очередь, и шевеление затихает.
– «Лебеда», «Лебеда», «Лебеда»! – вызывал батарею Суяров испуганным голосом, а слышалось: «Беда, беда, беда…»
Не надо было в этот окоп соваться. Поле видит, а толку что? Даже пулемет уничтожить не может. У тяжелых пушек, стоящих за два километра отсюда, рассеивание снарядов такое на этой дальности, что раньше он по своей пехоте угодит.
– «Лебеда»?! Слышь меня? Это я, «Акация»! Товарищ лейтенант! – Суяров снизу подавал трубку, смигивал мокрыми веками, плечом размазывал грязь по щеке. Рад был, что связь цела, не лезть ему под пули.
В трубке – сипловатый голос Повысенко. И тут же командир дивизиона отобрал трубку: сидит на батарейном НП. Слышно было, как он спрашивает Повысенко: «Кто у тебя там? Новенький? Как его?…»
А он тоже комдива в глаза еще не видал, только голос его слышал.
– Третьяков! Где находишься? Докладывай обстановку! И не врать мне, понял? Не ври!
– Я тут на поле, товарищ третий. Левей посадки. Пехота тут залегла.
Впереди окопа от пехотинца к пехотинцу ползал в это время командир взвода в зеленой пилотке, хлопал каждого по заду малой пехотной лопаткой.
– По-пластунски – вперед!
А пока к другому отполз – «По-пластунски – вперед!» – этот уже замер. Зеленая пилотка его гребешком высилась из травы. «Пилотку бы снял…» – мелькнуло у Третьякова, а сам докладывал командиру дивизиона обстановку. На дне окопа отдышавшийся Кытин грыз семечки, шелуха звеньями висела с нижней губы.
Визг мины. Пригнулись дружно. Несколько мин разорвалось наверху. Сжавшись, Третьяков и клапан трубки прижал, забыл отпустить.
– Что там у вас? – кричал командир дивизиона, которому слышно было в трубку, как здесь грохочет. – Где ты находишься?
– На поле, я ж говорю.
– На каком на поле? На каком на поле?
– Тут пулемет держит…
– Ты воевать думаешь? На черта тебе пулемет?
– Он пехоте не дает…
– Я тебя спрашиваю: ты думаешь воевать?
Визгнуло коротко. Откуда-то недалеко бьет: визг – разрыв! Визг – разрыв! А выстрела не слышно. Но батарея – не далеко. Высунулся и еле успел присесть: так низко пронеслось, казалось, голову собьет. Выглянул. По звуку – из-за деревни откуда-то.
На поле от свежей воронки расползались в стороны пехотинцы. Один остался неподвижно лежать ничком. Ее если не уничтожить, эту батарею, она всю пехоту переколотит. Пулемет они сами уничтожат, а минометная батарея… И не выскочишь отсюда. Вот если б на крышу коровника забраться…
Одним ухом он ловил полет мины, в другом раздавался накаленный голос командира дивизиона. А Третьякову орать не на кого, дальше – одна пехота.
– Крыши коровников видите, товарищ третий?
На миг дыхание пресеклось: показалось, вот она летит, твоя… Рвануло так, что окоп встряхнулся.
– Крыши коровников видите? – кричал Третьяков, оглушенный. Пошевелился, отряхивая с себя землю. – Там буду находиться.
Донеслось неясно, сквозь глушь:
– Там наши? Немцы? Кто там?
– А черт их знает, кто там. Пехота наша мелькала. Если на крышу залезть, оттуда все должно быть видно.
– Буду там, доложу!
– Ты гляди…
А что глядеть – не разобрал: уши забило звоном. Тряхнул головой, еще сильней зазвенело. Крикнул Суярову отключаться. Тут сидеть нечего. Зачем только сюда сунулся, всех за собой потащил… Они сидят, а пехота на поле под огнем лежит. Досидятся, что их тоже здесь ухлопает зря. Но до чего вдруг спасительным показался этот окоп, когда надо теперь вылезать из него!
– Кытин! Давай первым.
Первому особенно неохота лезть. Но первого и пулеметчик не ждет, он после изготовится, других ждать будет.
– Бери катушку, аппарат – и пулей в подсолнухи!
Кытин смахнул с губ шелуху, обтер ладони о колени, посерьезнел. Закинул автомат за спину, смерил прищуренным глазом расстояние.
– Я пошел.
Лег животом на бруствер, перекинул ноги, вскочил и побежал, метя полами шинели по траве. Они смотрели. Не добежав, кинул вперед себя тяжелую катушку, нырнул за ней следом головой в подсолнухи. Когда ударил пулемет, только шляпки раскачивались, указывая след.
– Суяров! Давай ты.
Тот сосредоточенно куском напильника по кремню высекал огонь. Торопился. Прикурил. Несколько раз подряд жадно затянулся. Цигарка вздрагивала в пальцах, а он сосал ее, сосал.
– Ждать, пока ты накуришься?
– Щас, товарищ лейтенант, щас…
Руки копошатся у рта, дергается обрубок безымянного пальца.
– Долго ты?
– Сейчас, товарищ лейтенант…
Лицо опавшее, все мокрое от пота, как облитое. Он стал вдруг отползать, сидя, заслоняться локтем.
– Вии-уу! – потянулось к ним из-за поля. – Бах! Бах! Бах!
– Ты пойдешь, нет? Пойдешь?
И сапогами подымал его с земли, а тот ложился на спину.
– Пойдешь? Пойдешь?
Суяров охал изумленно, внутри у него охало. Опять разорвалось наверху. А они тут возились в дыму, в окопе. Не владея собой, Третьяков схватил его за отвороты шинели, поднял с земли, притянул:
– Жить хочешь?
И тряс, встряхивал его. Близко перед глазами – облитые потом веки, вздрагивающий, мерцающий взгляд.
– Больше всех хочешь жить?
И чувствовал дрожь в себе и сладостное нетерпение: бить. Пхнул от себя, Суяров глухо ударился спиной о стенку окопа, выронил из носа кровь, яркую, как сок недозрелой вишни. Распахнутыми глазами глядел с земли, а сам опять валился на спину, поднимал над лицом копошащиеся пальцы.
– Живи, сволочь!
Третьяков схватил его автомат, схватил катушку, большую восьмисотметровую немецкую катушку красного телефонного провода, выкинул наверх.
Кто-то стонущий свалился в окоп. Зеленая пилотка. Испуганный, мутящийся взгляд. Руками в крови, в земле зажимает живот сбоку. Увидел это, когда уже разгибался бежать. На миг спасительная мысль: остаться, перевязать… Но уже бежал, в руке гремела катушка, провод сматывался на землю. И тут возник из-за поля вой мины. Ни выстрела, ни толчка – только этот отдельный, самый из всех слышный вой. И, пригибаясь все ниже, по мере того как возвышался вой, Третьяков с разматывающейся катушкой в руке бежал под него, как в укрытие, ноги сами несли быстрей, быстрей. И быстрей, быстрей, неотвратимей понеслось сверху. Снижался железный визг, в него одного нацеленный. Упал на землю. Всем своим распятым на земле телом, спиной между лопатками чувствовал его, ждал. И когда сделалось нестерпимо, когда дыхание перехватило, визг оборвался. Смертная зависла тишина. Зажмурился… Рвануло сзади. Вскочил живей прежнего. Отбегая, глянул назад. Дым разрыва стоял над окопом. Добежал до подсолнухов, упал. Глянул еще раз. Из самого окопа исходил дым разрыва. Там были Суяров и командир взвода в зеленой пилотке.