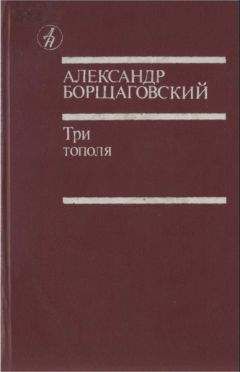— Когда-то же надо ехать…
Стало неуютно: руки Алексея лежали на ней тяжеля, обременяя.
— Отпусти меня, Алеша.
Она извернулась, на ходу одергивая блузу, встала против него, вглядываясь в серые усталые глаза на исхудавшем лице. Смотрела и ждала.
— Без реки мне тут делать нечего, и ездить не стоило, — сказал он. — А бегать туда надоело… Не могу, не хочу, что-то кончилось. — Он попытался улыбнуться.
Ничего особенного: усталость, раздражение, упрямство, может быть, неудачи на рыбалке. Отчего же в ней возникло чувство опасности и все вдруг связалось с долгими днями отчуждения, с жизнью порознь?
— Что-то у тебя случилось на реке? — спросила она осторожно.
— У меня все хорошо, — возразил он твердо. — Просто эта рыбацкая жизнь потеряла для меня смысл, так ведь бывает, Катя. Вчера я поймал судаков и забыл о них. Да, просто забыл, черви в них завелись.
Катя порывисто прижалась к нему.
— Капустин! Что-то переменилось у нас, Алеша? — спросила она с опасливой усмешкой и с бессильной угрозой, страшась чего-то, что не имело еще для нее ни запаха, ни цвета, И хотя он поматывал головой, не соглашаясь, Катя договорила то, что смутно донимало ее: — Тебя эта Саша, рыжая твоя ученица, расстроила?
Капустин отпрянул. Ветер покачивал ветви сосны высоко над ними, размытые тени играли на раскрасневшемся лице Кати, то приглушая ее краски, то открывая свету, и солнце золотило ее зеленоватые глаза.
— Показала нам мальчиков и смутила твою душу. Я видела, как ты нес его на руках.
— Зачем ты изводишь себя, мало ли их вокруг нас — мальчиков, девочек!
— Но она любила тебя, Алеша. Что же я — слепая?
— Вздор! Все ты не то говоришь. Вздор! — повторял он без душевной энергии.
— Любила! Как девчонки любят молодого учителя. Она рано созрела?
Он испытал мучительный соблазн: открыться, сказать правду, освободить душу и тем отринуть Сашу, все исчерпать исповедью, поступить, как Саша, жить без утайки, как бы трудно ни пришлось, и слова Сашины пришли на память, что если полюбил, то хоть зубы сцепи, а оно кричит в тебе, пока ты жив… Не было в нем страха за себя, и жалость к Кате вдруг ушла — пусть услышит, пусть пройдет через это, — остановила мысль о Саше, боязнь унизить ее, не рассказать и в исповеди всей правды о том, как он был счастлив. Сашу он больше не повидает, теперь все позади, она ему родной человек, сестра неродившаяся, чудом подаренная ему, как небо, под которым он вырос, как ночная Ока и шелест вековой липы над амбарчиком.
— Не пойму, о чем ты! — сказал он раздраженно.
— Она уже в школе была женщиной, правда?
— Мне-то откуда знать? Кончай ты эту канитель, лучше покорми мужа!
Катя разложила на газете жирные от растаявшего масла ломти хлеба, мятые яйца, пупырчатые, будто иззубренные, огурчики с грядки.
— Она тогда при тебе совсем потерялась, даже жалко ее стало. — Перед Катей все еще маячила крупная женщина в лодочках, с налипшим на большие ступни песком. — Побежала бы за тобой, только позови! — сказала Катя с безадресной обидой и пригасающим беспокойством.
— Ну что за фантазии? — рассердился Капустин. — Вязовкина скоро многодетной матерью будет, муж у нее первый парень на деревне, чего ей бежать! Куда?
— Некуда, — согласилась Катя. — Некуда. Но это ничего не значит: у каждого есть жизнь, как она сложилась, и есть мечта. Ты встречал ее с того раза?
— Они мимо нас доить ходят. Жизнь у них нелегкая, летом еще ничего, а осенью, а зимой! До света еще три часа, а они бредут, в дождь, в снег. — Саша исчезла из его рассказа, остались они, просто они, доярки, ферма за рекой, темная плотина в первой изморози, рыбаки на берегу до самой шути, до глубокого предзимья, осталась общая жизнь, и незаметно мир и покой вступили в сердце Капустина. — Схожу ночью напоследок, прощусь с Окой, и поедем. Мне трудно жить здесь дачником, любому приезжему простят безделье, дачник есть дачник. А своего судят, я это почувствовал. Может, и не строго судят, но я думаю об этом, и это отравляет мне жизнь.
На этот раз они перешли старицу по бетонному мосту и двинулись по толоке. Катя увидела много круглых, белых грибов, сломала несколько пружинисто-плотных шляпок, принюхалась к острому и горчащему запаху и поняла, что это шампиньоны.
— У нас их не берут. — Капустин пытался остановить ее, чтоб не клала их в корзину поверх березовых: веток. — Тут скотина толчется, они навозными считаются. Их тут никто не готовит.
Паром отстаивался под высоким берегом, можно было не спешить.
— Сама приготовлю, — возразила Катя. — Еще приду за ними и много наберу. — Она говорила все упрямее и тверже, будто не о пустяке. — Завтра две корзины наберу, и повезем с собой.
11
Около полуночи Капустин вышел в сумрак неспокойного сада. Ветер шумел вверху, в густой листве антоновок, неслышно сеялся теплый дождь, из тех, которые не оставят и следа поутру. За калиткой опомнился, что идет с пустыми руками, постоял, колеблясь, не спуститься ли вниз без снасти, проститься с Окой, но представились недоуменное лицо Мити, ухмылка Воронка, презрительные глаза Рысцова, полного энергии, заполняющего делом каждый миг своего существования, и Алексей вернулся за спиннингом. Когда шел вдоль балкона, наклонясь под ветвями, услышал шепот Кати:
— Алеша? Вернулся?
Из горницы на балкон смотрят три окна, Катя в среднем, но Алексею ее не видно за дощатой оградой.
— Спи! Я блесны забыл.
— Не ходил бы в дождь… Я без тебя не усну. — Скрипнула рама, Катя толкнула вторую створку. — Я в окошко вылезу, вернемся в амбарчик…
— У меня другой ночи не будет, Катя! — остановил ее Капустин. — Мы послезавтра рано уедем.
Он постоял, не дождался ответа, снова бросил в темень, в глухоту серых, отгородивших балкон досок покровительственное «спи!» и, уходя, закрывал калитку беззвучно, осторожно, будто Катя могла уже уснуть в эти считанные секунды.
Фонари на плотине светили сиротливо и тускло сквозь крепчавший дождь, но в темной сплошной громаде высокого берега ярко, вразмах всей стены, горело окно диспетчерской, и прожектор вырывал из мглы травянистый пригорок, стреноженного шлюзовского мерина, причальные кнехты и караульную будку правого берега.
Видят ли его из диспетчерской? Когда он входит в круг света под фонарем, видят, в бинокль могут и распознать, кого черти носят в непогожий час. Подумалось об этом мимолетно, не разум — глаз отозвался на резкий, казенный свет словно вырубленного во тьме окна. Сердцем Капустин чувствовал, что все будет так, как ему хотелось: он и река, никого больше. Он пройдет свой круг, простится с каждым мыском, с нависающими над темной водой ветлами, побредет вниз за переправу, дождется первого парома и взойдет на горку, туда, где вчера ждала его Цыганка, откуда он каждую ночь начинал спуск к реке. Он замкнет свой круг — это и будет прощание с Окой и с Сашей. Запретки нет, он свободно переходит реку по плотине, но жизни его это не изменило, река так же яростно напирает на сотни дубовых щитов, ярусами стоящих друг на друге, и рушится во всю ширь вниз, грохочет, беснуется и, затихая ворчливо, катит вдаль, навстречу волжской воде.
Караульная будка на левом берегу без двери, кто-то сорвал под ноги себе или в костре сжег; сухое дерево хорошо горит. Косой дождь не попадает в будку, можно бы отсидеться, но Капустин сошел по мокрому, выложенному камнем откосу на то место, где он упустил при Воронке судака. После полуночи, в дождь рыбе не до его снасточки: сильные броски и попятное движение снасти, то настороженное, крадущееся, то быстрое, как бегство, нужны ему, это его дыхание, его последний разговор с рекой. Капустин не видел, куда падает грузило, но угадывал место, знал его чутьем, опытом, слухом. Прекрасно было это рабочее, дерзкое соприкосновение с рекой и то, как они понимали друг друга под темным, облачным небом, и доброта реки к нему, словно и она знает, что эта ночь прощальная, и в сердце Капустина не жадность, не азарт, а печаль расставания. Река знает, что бежит он не от нее, а от Саши, но Саша и теперь с ним, стоит под кустами у «тихой» и наблюдает его янтарными, кошачьими, всевидящими глазами. Свою реку он пройдет этой ночью, всю, далеко за переправу, свободным броском подаст ей руку, сотни раз, вот так, огладит напряженной, быстрой снастью, может быть, и отпустит пойманную рыбу — он, как и в первый день, без кукана — пусть живет, пусть и река увидит его щедрость, его чистый, святой интерес. Саши он дожидаться не станет, они не встретятся этим утром, и он уйдет из ее памяти: Цыганка хорошо сказала — подсолнух, растет себе и растет, за солнцем голову поворачивает. У Саши хватит забот и радостей: это он так нескладно скроен, что не может забыть жалобных мешочков под ее глазами, ее погрузневшего тела, рыжего, радостного огня зрачков, грудного голоса, ее опрометчивости и прямодушия — что бы с ним ни случилось, куда ни забрось его судьба, Саша будет с ним, ему никогда не распорядиться собою вполне: любя Катю, он будет принадлежать и этой реке и Саше, потому что нужен ей, нужен в каком-то высшем смысле, не до конца доступном и ему самому.