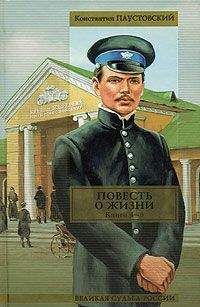Белоруссии казались нам прохладным раем. Раненые оживали и, свесив головы с коек, смотрели на шумящую гущу осин или на зеленеющее к вечеру небо.
К половине лета поезд так износился, что было приказано срочно увести его на ремонт в Одессу, в тамошние железнодорожные мастерские.
Мы шли в Одессу через Киев — город моего детства. Я снова увидел его на рассвете с запасных путей вокзала. Солнце уже золотило пирамидальные тополя и горело в окнах высоких домов из желтого киевского кирпича.
Я вспомнил его утренние, только что политые улицы, заполненные тенью, вспомнил хозяек, несущих в кошелках теплые булки-франзоли и бутылки холодного молока. Но почему-то меня уже не тянуло в свежесть этих улиц — Киев уходил в невозвратное прошлое.
В том, что прошлое необратимо, были смысл и целесообразность. Убедился я в этом позже, когда сделал две-три попытки вторично пережить уже пережитое. «Ничто в жизни не возвращается, — любил говорить мой отец, — кроме наших ошибок». И в том, что ничто в жизни действительно не повторялось, была одна из причин глубокой привлекательности существования.
После Киева проплыла за окнами кудрявая, перегретая солнцем Украина. Запах бархатцев, желтевших около каждой путевой будки, проникал даже в вагоны.
Потянулись степи, перерезанные золотыми полосами подсолнухов. В стеклянистой дали воздух весь день мрел и мерцал. Я уверял Романина, что этот блеск на горизонте — отражение в высоких слоях воздуха солнечного света, который падает на море и преломляется в нем.
Романин на этот раз не возражал и не смеялся надо мной. Он декламировал во весь голос у себя в аптеке:
Так вот оно, море! Горит бирюзой, Жемчужною пеной сверкает. На влажную отмель волна за волной Тревожно и тяжко взбегает…
Под Одессой я проснулся. Поезд стоял на полустанке. Я соскочил с площадки на полотно. Морские ракушки затрещали под ногами.
Я увидел низкий дом полустанка с красной черепичной крышей. Около белой стены росла высокая кукуруза. Ветер шелестел ее длинными листьями. Воздух над черепичной крышей и кукурузой переливался великолепной синевой.
— Вот теперь это действительно похоже на отблеск от моря, — сказал мне из открытого окна Романин.
Пахло полынью. Тогда впервые этот горьковатый запах соединился в моем представлении с близостью Черного моря. А потом это соседство полыни и моря так укрепилось, что даже на севере, услышав запах полыни, я невольно прислушивался, надеясь различить отдаленный морской гул. Иногда я будто слышал его, но шумело, конечно, не море, а сосновый лес.
Я был счастлив тем, что через несколько часов увижу море. С детства его веселый, пенистый простор запал мне в душу.
Нас подали под разгрузку к одесским пакгаузам. Моря не было видно. Только белел вдали одесский вокзал.
Но все вокруг казалось мне наполненным морем, даже лужи мазута на путях. Они отливали морской синевой. Валявшиеся на земле старые буфера были покрыты корабельной ржавчиной. Так, по крайней мере, я думал тогда.
Нам, санитарам, отвели под жилье старый пассажирский вагон третьего класса. Мы быстро переселились в него. Маневровый паровоз начал толкать этот вагон перед собой, затолкал наконец к низкой ограде пустынного сада и там оставил на все время пребывания в Одессе.
Нам очень нравилась наша стоянка. По утрам мы умывались тут же около вагона из водонапорной колонки. Сквозная тень акаций перебегала по окнам.
За садом шумел маленький базар, а дальше начиналась одесская окраина Молдаванка — приют воров, скупщиков краденого — «маравихеров», мелких торговцев и прочих многочисленных личностей с неясными и неуловимыми занятиями.
Врачи и сестры поселились на даче вблизи Одессы, на Малом Фонтане. Мы ездили к ним почти каждый день.
В день приезда я так и не увидел моря. На второй день я встал очень рано, умылся на путях солоноватой водой и пошел на базар выпить молока и поесть.
На базаре сидели на табуретках красные от жары и крика торговки с закатанными рукавами. Весь день они переругивались, перекликались, зазывали покупателей или подымали этих же покупателей на смех. Переругивались они нарочито визгливыми голосами, зазывали покупателей вкрадчиво, даже кокетливо, насмехались же над ними очень дружно, забывая на это время свои внутренние распри.
— Деточка! — кричали они мне. — Вот молочко топленое! Вот молочко с пенкой! Вам же мамаша ваша дорогая приказала пить молочко с пенкой!
— Семачки жареные! Семачки! — кричали другие мрачными голосами. — За копейку полный карман! За какую-нибудь затертую копейку!
Но интереснее всего было в рыбном ряду. Я долго стоял там около цинковых холодных прилавков, залепленных рыбьей чешуей и посыпанных каменной солью.
Плоские палтусы с сиреневыми костяными наростами на спине смотрели в небо помутившимися глазами. Скумбрия трепетала в мокрых корзинах, как голубая ртуть. Коричневые окуни медленно открывали рты и тихонько чмокали, как бы смакуя утреннюю базарную прохладу. Горами лежали бычки — черные «каменщики», светлые «песчаники» и кирпичного цвета «кнуты».
Около корзин с ничтожной фиринкой сидели особенно ласковые торговки. Их товар хозяйки покупали только для кошек.
— Вот для кошечки, барышня или мадам! Вот для кошечки! — кричали эти торговки льстивыми голосами.
На распряженных возах горами были навалены абрикосы и вишни. Под возами храпели в теплой пыли владельцы этих богатств — немцы-колонисты из Люстдорфа и Либенталя, а на возах сидели нанятые ими зазывалы — еврейские мальчики, ученики из хедера, и, закрыв глаза и покачиваясь, как на молитве, пели жалобными голосами:
— Ай, люди добренькие, господа дорогие! Ай, вишня! Ай, вишня, ай, сладкая абрикоса! Ай, пять копеек за фунт! Ай, пять копеек! Себе в чистый убыток! Ай, люди добренькие, покупайте! Ай, кушайте на здоровье!
Мостовая была засыпана вишневыми косточками с остатками кровавой мякоти и косточками абрикосов.
Я купил серого хлеба с изюмом и пошел в дальний край базара, в обжорку, где на толстых столах бурно кипели, отражая нестерпимое черноморское солнце, кривые самовары и жарилась на сковородах украинская колбаса.
Я сел за стол, покрытый домотканой скатертью. На ней была вышита крестиками надпись: «Раичка, не забывай за родной Овидиополь».
Посреди стола в синем тазу с отбитой эмалью плавали в воде пионы.
Я съел сковороду жареной колбасы, начал пить горячий сладкий чай и решил, что жизнь в Одессе прекрасна.
В это время ко мне подсел сухопарый человек в морской каскетке с треснувшим лакированным козырьком. Желтые баки торчали, как у рыси, по сторонам его серого лица.
— Скажите, молодой человек, — спросил он меня приглушенным голосом заговорщика, — вы, извиняюсь, не санитар?
— Да, санитар.
— С того поезда, что пришел вчера на ремонт?
— Да, с того поезда, — ответил я и с удивлением