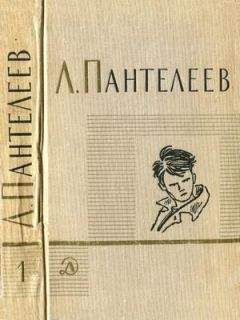Большой двухместный номер делил с ним в то время военный фотокорреспондент Т.
Николай Гаврилович вместе со мной спустился в вестибюль к администратору, я заполнил анкету, сдал на прописку паспорт.
Спал на довольно широком и не таком уж жестком диване. А рано утром пришла горничная и принесла мне какую-то бумажку. Зав. паспортным столом гостиницы сержант Жаров срочно приглашал меня явиться…
Явился.
В вестибюле, где-то в глубине, за массивным барьером, за спинами администраторш, сидел за своим столиком невысокий парень в милицейской форме. Встретил он меня негодующим возгласом:
— Вы что — смеетесь?
Я сделал серьезное лицо и сказал, что не смеюсь.
Он бросил на стол мой паспорт.
— С таким паспортом, с тридцать девятой статьей, имеете нахальство лезть в гостиницу!
Я стал объяснять ему, что произошла ошибка, что да, я действительно был лишен ленинградской прописки, но потом недоразумение разъяснилось, прописка была восстановлена.
— Посмотрите, говорю, пожалуйста, полистайте паспорт.
Тут, вероятно, следует записать, хотя бы для потомства, что же случилось. А случилось то, что когда «ошибка» выяснилась, дня за два до вылета из Ленинграда меня вызвали в 7-е отделение милиции и сказали, что я могу получить новый паспорт. Но для этого требуется представить три или четыре фотокарточки.
— Где же я их возьму? — сказал я. — Фотографии ведь в городе не работают.
— А этого мы не знаем, — сказал начальник паспортного стола.
Вот тут-то, наивный человек, я и сделал роковой ход.
— Может быть, можно ехать со старым? — сказал я. — Может быть, вы поставите штамп в этот, в старый паспорт?
— Как хотите, — усмехнулся начальник. Теперь мне кажется, что усмешка его была зловещей. Но в ту минуту я предпочел не заметить этого оттенка. Очень уж надоела мне вся эта волынка. Еще бегать за фотографиями!..
Вот именно этот подозрительный, с зачеркнутой и восстановленной пропиской паспорт я и представил сержанту Жарову. Могу ли я по совести осудить его за те слова, какими закончилась наша беседа:
— В двадцать четыре часа покинуть Москву.
Вернулся я в свой («свой»?!) номер совершенно растерянный и удрученный. Милейший Николай Гаврилович как мог утешал меня. Посоветовал звонить Фадееву. С трудом дозвонился до Союза. Фадеева нет и до понедельника не будет. С не меньшим трудом, с помощью Жданова, узнал домашний телефон Фадеева. Не будь рядом Жданова, не стал бы, пожалуй, звонить. Однако перешагнул через неохоту, через застенчивость, позвонил. Сказал, что у меня новые неприятности.
— Приезжайте. Расскажете. Поможем.
— Когда можно приехать?
— Сейчас.
Был у него в Комсомольском переулке, где-то на Мясницкой. Он при мне позвонил своему заместителю Скосыреву. И я тотчас поехал на улицу Воровского к Скосыреву. Там просидел в приемной часа полтора… Получил бумагу, адресованную в 50-е отделение московской милиции: Союз писателей просит прописать такого-то временно в городе Москве.
Поздно вечером был в милиции. Начальник выслушал меня не очень доверчиво.
— Пропишу на три дня. А о прописке более длительной хлопочите через городской отдел.
И началось…
На другой день выстоял и высидел огромную очередь на Якиманке. Тамошний начальник сказал:
— Даю разрешение на две недели. Запросим сегодня же Ленинград. Если выяснится, что прописки вас не лишали…
— Да в том-то и дело, что лишали!.. Но это была ошибка…
Пытаюсь объяснить, как все было. Ему некогда слушать.
— Одним словом — даю указание пятидесятому отделению прописать вас на две недели…
И вот уже восьмой, кажется, день живу на пороховой бочке.
. . . . .
Вернулся в Москву Самуил Яковлевич. Был у меня в моем номере. Да, он уже наполовину мой, фотокорреспондент Т. уехал. Я занимаю одну из двух семейных кроватей. А на диванчике у противоположной стены каждую ночь спит какой-нибудь приезжий — с фронта, из Ленинграда или из тыловых городов, из эвакуации. Наш номер, так сказать — гостиница в гостинице.
С. Я. сидел у нас около трех часов. Пытался «организовать» ужин, звонил метрдотелю, директору ресторана, но ничего, кроме прогорклой тушеной капусты, нам не принесли.
. . . . .
Был в Детиздате. Случайно узнал, что они еще зимой, кажется в Кирове, куда были эвакуированы, переиздали «Пакет». Сделали это, как я понимаю, только потому, что считали меня погибшим.
Неожиданно и очень кстати получил деньги.
. . . . .
Стоял в очереди на главном телеграфе, посылал телеграмму своим. Впереди какой-то плотный, рослый, статный генерал. Телеграмма его лежала на бортике перегородки. Я машинально заглянул: В Ташкент Игнатьевой: «Все отправлено малой скоростью остался холодильник и мелочи»…
Отошел немного в сторону, посмотрел: да, граф Игнатьев*, «50 лет в строю»!..
. . . . .
Октябрь 1942 г. В ресторане гостиницы «Москва» еще играет джаз, но кормят плохо, по талончикам, с хлебом или без хлеба, в зависимости от категории. Среди обедающих преобладают военные — большей частью средний и старший начсостав.
Водку официанты где-то добывают, но за особую мзду — не больше пол-литра на душу.
Заселена гостиница тоже главным образом военными, ответственными работниками и партизанами (приехавшими получать ордена)… Много и нашего брата — свободных художников. Живут здесь сейчас Д. Шостакович, Л. Утесов, И. Эренбург, Павло Тычина, много белорусских и ленинградских писателей.
В номерах запустение, белье не меняют неделями, жиденький и чуть теплый чай подают в стаканах без блюдечек.
. . . . .
В Охотном ряду, на Кузнецком, на улице Горького часто можно увидеть американских, английских, польских солдат и офицеров. Пожалуй, наиболее боевой, бравый, воинский облик имеют поляки. У американцев вид совершенно штатский. Сутулятся, шагают не в ногу, размахивают руками.
. . . . .
Рассказывает Е. Л. Шварц. В каком-то среднеазиатском городе артисты эвакуированного столичного театра устроили по какому-то, уж не помню, случаю банкет, на который пригласили и гастролировавшую в городе труппу лилипутов. Лилипуты были тронуты, за ужином выпили, еще больше растрогались и стали жаловаться Евгению Львовичу — не на судьбу свою, а на изверга-администратора, который, по их словам, нещадно их эксплуатирует.
— Вы только представьте! — говорили они со слезами в голосе. — Что он делает?!! Нас двадцать четыре человека, он счет в филармонию выписывает на двадцать четыре кровати, а сам две кровати вместе сдвинет и всех нас туда уложит, как собачек. А среди нас ведь и женатые есть!
. . . . .
74-я пехотная дивизия была сформирована осенью 1914 года в Петрограде преимущественно из швейцаров и дворников. Поначалу показала очень плохие боевые качества, потом выправилась, ее хвалил Брусилов.
. . . . .
Меню «литерной» столовой провинциального города:
«Компот из сухих фруктей».
. . . . .
Светская дама военного времени. Пьет чай. Гость (от чая отказался, сидит в пальто) чем-то ее насмешил. Она хохочет с трагическим выражением лица.
— Погодите, оставьте, не смешите, у меня сахар во рту тает!..
Пьет вприкуску.
. . . . .
Ноябрь 1942 г. Поздно вечером иду по Тверской. Холодно. Темно. Метет пурга. И вдруг откуда-то словно из-под земли, из подземелья — песня. Останавливаюсь, оглядываюсь: откуда?
Стоит на углу куцая, на курьих ножках застекленная будочка регулировщика движения. В будке — за стеклом толстощекая русская девушка в милицейской форме, в круглой меховой шапке. Пригорюнилась и поет:
Ой ты, домик мой, домок,
Ой ты, терем, тяремок…
. . . . .
На московских рынках больше серых шинелей, чем штатских пальто. Большинство торгующих — инвалиды Отечественной войны. У многих по пять-шесть цветных полосок на правой стороне груди.
. . . . .
Продуктовые сумки, которые до войны назывались «авоськами» (авось что-нибудь попадется), теперь называют «напрасками».
. . . . .
В очередной раз кончилась моя прописка. В очередной раз пишу заявление начальнику 50-го отделения милиции. Жданов, видя, как я терзаюсь, говорит:
— Чего вам ходить? Давайте я схожу. Мне проще.
Правильно. И вид у него импозантнее. Ходит он в командирской морской шинели, на фуражке — «краб». Некоторое время Коля работал корреспондентом на Балтийском флоте, потом по состоянию здоровья его отчислили. Теперь работает в ТАССе.
Тронутый его предложением, вручаю ему свое пространное заявление.
Вечером он возвращается, я спрашиваю:
— Были?
— Да. Был, конечно.
— Ну и что? Видели начальника отделения?
— Видел. Славный дядька. Говорит: пусть живет сколько хочет.
— Так и сказал?