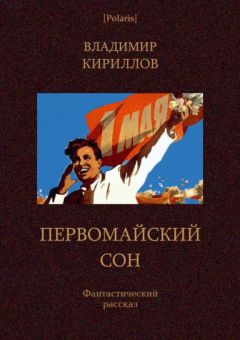И если провести воображаемую линию еще дальше, повернуть ее прямо на запад, к разрушенным киевским мостам, к уютной, в высоких деревьях улице за Ботаническим садом, она упрется концом также в то, чего уже нет… Было — и нет! От всего, что было у Берестовского, остались только развалины, как от киевских мостов, как от этого села, дотлевающего за рекой. Развалины на земле — и развалины в сердце, черные, пережженные, уничтоженные огнем, задымленные, тяжелые развалины того, что казалось прочным, если не вечным. И никто не виноват, и некого ему винить за развалины в сердце, как и за развалины на земле, есть один только виновник, на котором лежит ответственность: война, фашисты…
Окно на третьем этаже над деревьями Ботанического сада возникло перед глазами Павла Берестовского, и хоть он знал, что Аня далеко, в неразрушенном городе на востоке, что она пишет письма и посылает карточки не ему, что у нее есть для этого и время и желание, во всей реальности увидел он ее искаженное войной лицо в том окне, холодные глаза и жадный рот, смеющийся над всем, что в развалинах лежит вокруг.
Сухой стебель хрустнул в кулаке у Берестовского, сломался и упал на бруствер.
Кто-то, рванув за плечи, силой посадил его на дно траншеи.
Над обрывом кружились бомбардировщики, ревели моторы, отчаянно стучали замаскированные на опушке леса зенитные батареи. Берестовский не слыхал, когда это началось.
Бомбы падали на поле, свист их полета и грохот взрывов сливались с тяжким гудением, скрещивавшимся над обрывом, и разрывами снарядов в селе за рекой и в лесу за кукурузным полем. За воем и грохотом в небе и на земле в траншее ничего не было слышно. Берестовский видел, как наклоняется телефонист над зеленым ящиком в углу траншеи, видел его красное от напряжения лицо и раздутую от крика шею, но самого крика не слыхал — только раскрывался и закрывался рот над телефонной трубкой, прикрытой ладонью, да блестели воспаленные глаза телефониста. Комдив Повх тыкал пластмассовой дужкой очков в карту, которую держал перед ним грузный, тяжело дышащий полковник, и тоже раскрывал и закрывал рот, губы его медленно шевелились, произнося слова, которых нельзя было услышать. Курлов кивал головой, соглашаясь с комдивом.
На минуту грохот притих, словно немного отдалился, тяжело дышащий полковник сказал:
— С батальоном Жука нет связи… Музыченко докладывает, что видит со своего НП танки на плацдарме.
Снова, с еще большей силой загрохотало, снова начал открывать и закрывать рот командир дивизии, снова закивал головой Курлов. Грузный полковник медленно сворачивал карту, он долго втискивал ее в планшет. Повх и Курлов терпеливо смотрели на его большие руки, будто в эту минуту все зависело от того, управится полковник со своей картой или не управится.
Протянув руку из-за спины полковника, устроившего наконец карту в планшете, телефонист подал трубку командиру дивизии. Теперь уже грузный полковник и Курлов не отрывая глаз смотрели на него, по движению губ угадывая, с кем и о чем он говорит.
Грохот снова затих, и Берестовский услышал, как полковник Повх сказал:
— Ну что же, идите… От ваших батальонов теперь зависит вся дивизия.
Повх отдал трубку телефонисту.
Лажечников уперся ногою в стенку траншеи и вылез на поле. Берестовский пополз за ним.
Берестовский был убежден в том, что ему нужно ползти за полковником и быть вместе с ним. Он понимал, что Лажечников отправился в самое опасное место, туда, где надо перекрыть дорогу немецким танкам, которые, судя по всему, уже захватили плацдарм или были близки к этому. То, что Берестовский мог встретиться с танками, не только не пугало его, а, наоборот, освобождало от страха, приказывало ползти за Лажечниковым И сделать все, чтоб танки не вырвались с плацдарма на левый берег реки. Он не отдавал себе отчета в том, что будет делать и что сможет сделать, вооруженный только давно не чищенным трофейным автоматом. Это не имело для него значения; имела значение только необходимость быть там, где складывалась наибольшая опасность.
Лажечников, лежа на земле, оглянулся и остановил его взглядом.
«Хватит с меня корреспондентов!» — говорили глаза Лажечникова.
Голос его прозвучал мягко:
— Не разрешаю.
Берестовский подтянулся на локтях к Лажечникову.
— Вы уверены, что имеете на это право?
— Вам там нечего делать.
— Это еще неизвестно.
К ним бежал лейтенант Кахеладзе, низенький, худощавый, с маленьким, как кулачок, выбритым до синевы лицом под большим зеленым шлемом, за лейтенантом спешили два автоматчика.
Лейтенант склонился к земле и положил руку на погон Берестовскому.
— Комдив приказывает вернуться.
Берестовский глянул вверх, на лейтенанта, и замотал головой, будто не понимая его слов, да, собственно, так это и было, он не мог понять, чем вызвана эта чрезмерная забота о его безопасности со стороны полковника, а теперь еще и командира дивизии.
— Не понятно? — еще ниже наклонился к Берестовскому лейтенант. — Что тебе не понятно, майор? Когда комдив приказывает, надо сразу понимать.
— Вот видите, — сказал Лажечников, поднялся и быстрыми шагами пошел к лесу. Лейтенант и автоматчики поспешили за ним.
Берестовский вернулся в траншею. Полковник Повх оторвал глаза от карты, сбросил с переносицы очки и ткнул ими в грудь корреспондента.
— Нам нужен не ваш героизм, а ваши стихи, — сказал Повх, нацепил очки и снова молча склонился над картой.
Курлов не смотрел на Берестовского, он старательно раскуривал в это время папиросу, клубы дыма закрывали его лицо,
6
В полутьме круглой ивовой пуньки гулял прохладный ветерок, пахло прошлогодней мякиной. Они лежали на сене и больше молчали. Сквозь темное плетение ивовой лозы синими полосками просвечивало небо, вся пунька была окутана теплым сиянием, но оно оставалось снаружи, а в пуньку проходило профильтрованное — серое и бесцветное, будто эта тонкая ивовая стенка была сделана нарочно, чтобы отделять их от яркого, солнечного, веселого мира, в котором не прекращалась жизнь, — отделять и держать в однообразной бесцветности воспоминаний про ад, из которого они только что вышли.
Возможно, эта бесцветность воспоминаний была обусловлена тем, что все, что они пережили, началось в серой полумгле еще не рожденного утра, в те минуты на грани дня н ночи, когда еще нет света, а тьма уже рассеялась и на земле царит печальный сумрак, в котором и поля, и леса, и строения, и люди приобретают оттенок нереальности, тем более заметный, чем глубже тишина вокруг, тишина, в которой зреет реальность живого дня.
Сколько из тех танкистов, с которыми Варвара вышла из лесу, сколько из тех молодых, веселых и сдержанных парней, которые у нее на глазах хлопотали у своих машин, получали письма и писали домой, а потом вели танки по темной, ночной дороге и на рассвете вступили в бой, — сколько их пришло в это тихое, отдаленное от фронта село, Варвара не знала.
Штаб бригады подполковника Кустова в темноте расположился на околице маленькой деревни, которая лежала на высоте у дороги.
Два танка с задраенными люками стояли под деревьями у избы. В избе над картой при свете самодельной коптилки сидел подполковник. Офицеры, связные, телефонисты входили, стояли у длинного ящика, служившего подполковнику столом, выходили — вместо них появлялись другие. Черные тени шевелились на обрушенном потолке, беззвучно сталкивались, расползались и опять сходились. Варвара вышла и прислонилась плечом к теплой броне тяжелого танка, уткнувшегося в темноту длинным хоботом пушки. Открылся люк, из башни высунулся по грудь танкист, он перегнулся вниз и узнал Варвару.
— А-а, это вы, — сказал танкист. — Будете нас фотографировать?
— Буду, — ответила Варвара.
Танкист нырнул в танк и сразу же опять появился над башней. Перебивая дух машинного масла и горючего, в воздухе поплыл запах хорошего табака. Танкист курил, прикрывая ладонями огонек папиросы.
— Хотите папиросу? Дело будет жаркое, раз майор Кваша расщедрился на «Казбек»!
Варвара взяла папиросу и неумело прикурила от папиросы танкиста, огонек осветил его шершавые большие руки в наплывах мозолей, как у кузнеца или слесаря. Варвара затянулась, закашлялась и затоптала папиросу в землю у гусеницы танка.
— Ко всему нужна привычка, — снова послышался сверху голос танкиста, — к табаку, к бомбежке, к танковой атаке,
— А вы уже привыкли?
— К табаку? Привык.
Варвара вздохнула, поняв печаль, которая прозвучала в ответе танкиста.
— Только к смерти привыкать не надо… Если успеешь сказать «мама» — твое счастье, а потом — уже ничего нет, сырая ямка или сухой песок.
— А где у вас мама?
— По мне некому будет плакать: я круглый сирота.
— И девушки нет?
— А что девушка? «Пускай она поплачет, ей ничего не значит…»