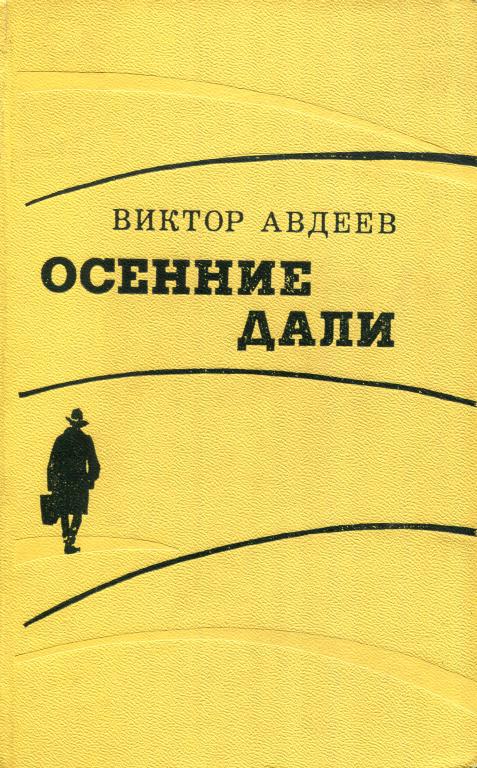достал из своего кожаного пальто перчатки. — Поедемте к нам в Марьино. Погостите денек, выпьем рюмочку со встречи.
Старик не ответил.
В мастерскую шумно вошли два подростка. Оба несли охапки ясеневых ободьев.
— Колянь, — обратился дед к старшему, — просверлили дырья для спиц?
— Поделали, Пров Гаврилыч, — видно, кому-то подражая, как взрослый, ответил большеротый мальчик в сапогах.
— Ну-ну, глядите. Не то скажут: дед, мол, худо учил… Я небось пойду. Внук вот на побывку пришел, забирает на праздник в Марьино до отца… Так, стало быть, на два стана заготовки есть? С недели начнем набойку. Что ж, детки, собирайте струмент, пора и шабашить.
Он неторопливо, чуть враскачку, но еще твердо ставя ноги в подшитых валенках, направился из мастерской. На костыль он почти не опирался.
II
От «бригадной» деревни Хорошей до правления объединенного колхоза «Власть труда» считалось четыре километра. Гнедой мерин легко вез бричку, или, по-местному, шабайку. Дед Пров, одетый совсем по-зимнему — в крытый тулупчик, баранью ушанку, сидел на сене, отвернув от ветра покрасневшее лицо. Петр ехал не шибко, чтобы не трясти бричку на колдобинах.
Октябрьское солнце померкло рано, желтая заря окрасила запад, из голого перелеска наползали свинцовые сумерки. Пошевеливая вожжами, Петр искоса поглядывал на прадеда. Подумать, девяносто шесть лет, еще в крепостное время родился, трех царей пережил, три революции, гитлеровскую оккупацию, — сколько ж должен был перевидеть на своем веку? Взять бы тетрадку да позаписывать за ним. Откуда старик черпает бодрость духа? Ведь еще работает. В чем секрет этой успешной борьбы с одряхлением, с самой смертью?
— Дед! — прокричал Петр в самое ухо старику. — Как вы тут живете-можете?
— Какая моя жизнь, — пожевав губами, ответил Пров. — Все дружки, дети давно там. — Дед спокойно показал кривым, сморщенным пальцем в землю. — Один остался… как труба на погорелище. Изба, в какой рос, завалилась. Вот тополь еще стоит. Годов тому восемьдесят посадил, ну, держится тополь. Стоит. А я чего? Гляжу вот: живут молодые. Ничего живут, полегче против прежнего… Чисто бары. Молотить сберутся — на машинах везут. Пахать, жать хлебушко — опять же машиной. Сиди да верти рулем. Девки в шелка поразоделись, все ученые. Дело какое прикинется… в Совете ль, в городе — в телефон говорят…
Старик умолк. Петр спросил, как его здоровье, но дед не ответил. То ли задремал, то ли озяб, а может, просто слишком тарахтели колеса по крепкой, прибитой осенней земле, и старик не слышал — на уши он был туговат. Так они проехали все четыре километра — и промерзшим полем с почерневшей стерней, и осиновым перелеском в засохших лохмотьях листьев. И лишь когда шабайка, прокатив по Марьину, остановилась перед просторной избой, белевшей в сумраке этернитовой крышей, дед Пров посмотрел на колеса и сказал:
— Моя работа.
В доме Феклистовых уже собралась родня.
Посредине горницы были сдвинуты два стола, застеленные разными скатертями. Во главе сидел сам хозяин, один из внуков Прова, Елизар — мужик за пятьдесят лет, приземистый, с толстой, бурой, короткой шеей. По бокам разместились три его сына, их жены и вдовая дочь. По случаю воскресенья дома находились и дети, старшие — в школьной форме. Хозяйка и старшая невестка Настасья, красные от печного жара, готовили закуску. В глиняных мисках, точно подернутый инеем, маслился свиной холодец; задрав кверху бутыльные ножки, лежал жареный гусь; на двух сковородках шкворчала красноглазая яичница; круглые моченые помидоры, казалось, готовы были брызнуть соком; от жареной картошки подымался густой духовитый пар; хлеб был нарезан большими ломтями, рядом лежала свежая коврига. Отдельно на тарелочке возвышался мелкий черный виноград, напоминавший спелый терн. У двери на полу в эмалированном тазу желтели антоновские яблоки из своего сада. Хозяин распечатал бутылку, разлил по стаканам «зверобой» — коричневый, цвета застаревшего чайного настоя.
— Да у вас целый праздник получился, — смеясь, сказал Петр. От своих братьев, таких же плотных, коренастых, с широкими подбородками, он отличался военной формой, погонами с крошечным серебряным танком поперек красного просвета да еще, пожалуй, выправкой. — Сколько ж вы, папаша, заработали в этом году на трудодни?
— На всех хватит, — басом ответил Елизар Фролыч. — Что ж, пригубим?
— За встречу с родным офицером!
— За нашу семью колхозных механизаторов!
Все выпили. Дед Пров тоже сделал глоток, закашлялся и стал закусывать корочкой, стуча пластмассовыми зубами.
За столом пошел разговор о работе тракторного отряда, о новых марках автомобилей, о молотьбе. Младшая ветвь семьи деда Прова вся «сидела» на машинах. Сам Елизар считался первым бригадиром в МТС и крепко держал в своих умелых мозолистых руках переходящее знамя. Старший сын его работал комбайнером, средний водил грузовую трехтонку, а младший был кочегаром на колхозной молотилке. Петр до призыва, как и отец, работал трактористом; он и в армии не изменил семейным традициям — служил в танковой части.
— Узнаешь батю? — наклонился к Петру самый младший брат, — Так и не сказал, сколько заработали. Это, по, его мнению, «зря языком полоскать». А получили мы неплохо… и деньгами, и на базар будет что вывезти.
— Нынче в осень, видишь вон, и виноград на трудодень дали, — подхватила старшая невестка Настасья, ставя на стол самовар. — Хоть опробовали. В полеводческой бригаде целый сад развели.
— Верно. Мичуринский виноград. Эвон куда с юга забрался. Отведай. Кислый только.
Лейтенант одну кисть взял себе, а другую положил деду Прову.
От вина щеки старика слабо порозовели, в глазах появился тусклый блеск. Он вяло жевал холодец, смотрел перед собой куда-то в стену, и было неизвестно, слушает он или нет. Большие мослаковатые, изуродованные временем руки Прова, цвета старого дуба, словно отдыхая, лежали на столе.
«Сколько за свою долгую жизнь эти руки дел переделали? — подумал лейтенант. — Когда-то, говорят, прадед слыл знаменитым мастером на весь уезд. С одного взгляда определял молодые ясеневые кряжи на ободья, сам обрабатывал их в «парне», мог за день сработать целый стан — все четыре колеса для телеги, брички, крепких, с четким кантом; без обтяжки поезжай в Орел, Тулу, а приварить шины — так хоть и в саму матушку-столицу. Сколько на его колесах людей поездило!»
— Трудно вам небось, дед, сейчас ободья набивать?
— Под старость всякая работа нелегка.
За столом вдруг замолчали: все прислушались к разговору. Петр, сам не зная, затронул больную для семьи тему.
— Я помню, дед, ваши рассказы, — беззаботно продолжал он. — Бывало, мол, после работы рубаху хоть выжимай. Месяц поносишь — сопреет. Верно?
— Не забыл? — Старик улыбнулся, показав бледно-розовые десны. — Верно говоришь, Петяш. Было. Как сейчас вижу. От онучей — пар. В старину мужик не понимал сапог, все в лаптях больше, а то босой. Это лишь сейчас в