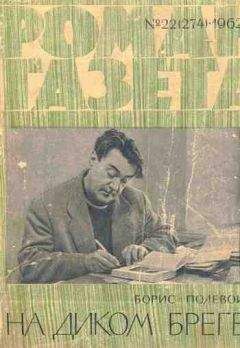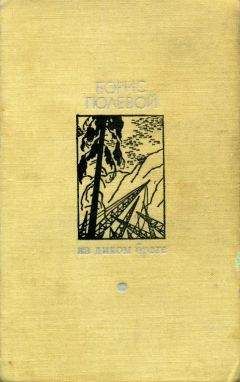Строчки эти Дюжев в письме сам и подчеркнул. Но при этом утверждал: и все-таки это ценнейший человек, знающий, деловой, неутомимый, нужный ему позарез. «А, черт!.. Поверил Дюжеву, верь и его рекомендации. Скольких стройка шкуру переменить заставила, и как здесь быстро эти перемены происходят!»
Литвинов позвонил.
— Валенсия, отыщи Павла Васильевича, скажи ему, пусть зовет этого своего дружка. Посмотрим, что он за сокол. Пусть за ним сам слетает… Ну, что у тебя?.. Чего топчешься?
Валя стояла взволнованная. Не отвечая на вопрос, протирала очки.
— Да чего ты их трешь, они чистые. Ну?
— Федор Григорьевич, — едва слышно произнесла девушка, — комсомольцы пропали.
— Как? Какие комсомольцы? Что за пропажа?
— Наши геологи. — Голос Вали прерывался. — Партия Сирмайса. Те, что на Усть-Чернаве. — Девушка покусывала губы. — Василиса там с ними…
— Стой, стой, подожди, — прервал ее Литвинов, хватаясь за плечо и морщась от боли. — Где они там, у тебя, эти дурацкие капли?
Валя принесла пузырек, накапала на кусочек сахара. Чувствуя, как бьется сердце, как белье становится влажным, Литвинов положил сахар в рот, брезгливо передернул плечом.
— Откуда известно, что пропали?
— Звонили из Оньской экспедиции: с ними прекратилась связь. В субботу было: «…Пошли на север». А в ту ночь, помните, начался большой буран, когда краны поломало… Пятую передачу молчат.
— Почему же до сих пор мне не доложили? — Тонкий голос Литвинова поднимался до самых высоких нот. — Столько времени люди молчат, и мне неизвестно. — Литвинов тяжело дышал. — Расследовать. Кто виноват?
— Я. — Это было произнесено спокойно, и, хотя глаза Вали мокры, взгляд ее был тверд. — Я не доложила. Мы с Диной Васильевной решили вас без крайней надобности не волновать. И я вижу, что она была права.
Обычно, когда Литвинов, как говорили на стройке, «срывался с цепи», все затихало, люди старались не попадаться ему на глаза. А эта девушка, крепкая, как гриб-боровичок, спокойно стояла перед ним. Глядела, не отрываясь, в побледневшее, искаженное гневом лицо.
— Какие-то клистирмейерши и сопливые девчонки хотят здесь командовать? Да? — Голос Литвинова стал совсем тонким. — К чертям собачьим! Чтобы духу твоего здесь не было… Речь о жизни человеческой, а они, видите ли, решают.
— Начальник экспедиции полагал, что они сегодня, может быть, выйдут на радиосвязь, и мы договорились пока вас не беспокоить.
— Я, ты, он, мы, вы, они. Кто это мы?.. Вон отсюда. Вон сейчас же…
— Кому мне завтра сдавать дела? — прозвучал спокойный вопрос. — Я сегодня перепишу, что у вас назначено на завтра, оставлю на столе. — Девушка повернулась, пошла к двери. Она решительно взялась за ручку, но услышала какой-то клекающий звук. Сморщившись от боли, начальник согнулся, опираясь грудью о стол.
— Воды, дай воды!.. И эту гадость!.. И окно, окно поскорее…
Письмо, полученное из Старосибирска, и обрадовало и озадачило Дюжева. В нем содержался совет послать ко всем чертям строительство и ехать на жительство к другу, отдыхать от всего, что было, что есть и что может произойти. Если бы такое приглашение прислал человек, которого Дюжев мало знал, он разорвал бы письмо и забыл о нем. Но писал лучший друг фронтовых лет, Карл Ворохов, тот самый, с которым они, отступая, подрывали мосты на реках от Бреста до Подмосковья, а потом, наступая, строили их на всем победном пути от Сталинграда до Берлина, веселый, смелый, неутомимый, изобретательный Ворохов.
Почерк был знакомый. И все же казалось, писал кто-то другой, неизвестный, не имеющий отношения к старому другу. И женку Ворохова Зою Дюжев помнил. Это была одна из тех девушек, что в разгар войны уходили в армию, становились снайперами, разведчицами, пулеметчицами, санинструкторами, связистками и вместе с мужчинами несли все тяготы фронтового бытия. Телефонистка штаба инженерной части Зоя была к тому же, себе на беду, хорошенькой. От поклонников разных званий отбоя не было. Сама же она платонически, почти молитвенно, была влюблена в Дюжева, который тяготился этой привязанностью и очень обрадовался, когда уже в Польше его начальник штаба попросил увольнительные для себя и сержанта Зои; они собирались ехать в тыл до первого советского районного центра, чтобы зарегистрировать там свой брак…
И вот письмо. Вот обратный адрес: Староси-бирск, улица Победы, дом 14, Ворохов К. М. Вот и сама эта тихая улица, одна из тех, что возникали после войны на окраинах — реденькие шеренги разномастных деревянных домиков. За годы домики вросли в пейзаж, обветрились. Перед ними выросли черемуха, рябина, лиственницы… Дюжев шел по улице. Дома восьмой, десятый, двенадцатый и… сразу шестнадцатый. Четырнадцатого не было. Что такое? Какие-то пожилые люди — мужчины и женщины сгружали с машины молодые курчавые, бережно завернутые в рогожу пихты, привезенные, по-видимому, прямо из тайги. Несколько таких деревьев уже выстроились вдоль проезжей части, укрепленные как радиомачты, проволочными расчалками.
— Простите, не скажете, где здесь дом номер четырнадцать?
— Вороховы, что ли? — спросил один из работавших, высокий, худощавый старик в военных шароварах и форменном ватнике. — Он свой дом в глубь двора спрятал, Ворохов. — Вон — глухой забор, — это его. — В тоне пожилого мужчины, в котором Дюжев без труда угадал офицера-отставника, звучало подчеркнутое пренебрежение.
— Да он и сам тут где-то вертелся, все с утра к звонку своему что-то прилаживает, — вмешалась в разговор полная пожилая женщина. — Вы к ним не за огурцами, часом? Продала Зойка последние огурцы. Золотишники какие-то, что ли, заезжали. Втридорога, говорят, с них слупила… Да вон он и сам, Ворохов-то почтенный.
Действительно, из калитки, незаметно встроенной в тесовый глухой забор, показался человек с отверткой в руках. Не глядя в сторону сажавших деревья, он начал что-то старательно прилаживать. В этом толстяке с нездоровым, отечным лицом, с узенькими, заплывшими глазками было так мало от быстрого, порывистого, энергичного майора, что Дюжев на миг заколебался — подходить ли. Но толстяк уже сам заметил его, бежал навстречу, держа в одной руке отвертку, в другой — кусок проволоки.
— Полковник, Павел Васильевич! Друг сердечный!.. Приехал-таки… Ну, пойдем, пойдем в дом… Вот Зойка-то моя обрадуется! — Заплывшие глазки с любовью смотрели на гостя. — Такой же, но сивый… Ну еще бы!.. — Из глазок текли слезы, и Ворохов не стеснялся их. — А я сдал? Да? Пульс — сто с гаком, давление ужасное. Ничего, брат, не поделаешь: сэрдце, пэчень. — В этих словах он, явно подражая кому-то, заменял «е» на «э». — Только вот Зойкиными заботами да латинской кухней и держусь… Да пойдем в дом… Постой, я собаку привяжу. Кобель у меня, я тебе скажу, родословная, как у Черчилля, до двадцатого колена. Зверь: чужого молча атакует…
Из-за забора доносилось глухое злобное ворчанье. Ожидая у калитки, Дюжев рассмотрел над щелью для писем и газет дощечку. «Осторожней. Во дворе — злая собака» — предостерегала она. И уже выше этого стандартного предупреждения кто-то чернильным карандашом за словом «злая» вставил «и жадная»… Послышался знакомый, мелодичный голосок, так много сразу напомнивший Дюжеву. И вот уже навстречу ему из калитки двигалась, переваливаясь, еще молодая, но очень толстая женщина в шубе, накинутой на халатик.
— Товарищ полковник! Вспомнили, отозвались! — говорил знакомый мелодичный голосок.
«Неужели Зоя?» Ну да, черты лица сохранили даже прежнюю привлекательность, белые кудряшки веселыми штопорками выбивались из-под наспех накинутого пухового платка. Но и лицо, и кудряшки, и чистейшей голубизны глаза — все это, казалось, плавало над жировыми наслоениями.
— Товарищ полковник, можно мне вас поцеловать?
— Это уж у мужа спрашивайте, Зоя, как вас там по батюшке?
— Зоя, Зоя, для вас всегда буду Зоя. Господи, как мы обрадовались, что вы живете и работаете где-то тут рядом! И какая подлость этот «маленький фельетон»…. Я прочла и сейчас же говорю Карлику: «Пиши скорей письмо. Пусть плюнет на них и едет к нам…»
Едва дав гостю раздеться, супруги потащили его смотреть хозяйство. Крепкие сараи, погреб, ледник. Потом домик, где были и газ и батарейное отопление. Показали ванную, заставили дернуть ручку в уборной. Все дышало домовитостью, в чуланах до потолка одна на другой стояли банки с вареньями и маринадами, а в погребе лежали пустые кадки, от которых шел шибающий в нос запах укропа, эстрагона, черемши.
— Лучшие в Старосибирске огурцы, лучшая капуста наши! — с гордостью восклицал Ворохов. — Тут один американец, Аверел Гарриман, прилетал. Хочу, говорит, настоящую сибирскую еду попробовать. Так из ресторана к нам присылали. Честное слово. Так что у Зоюшки моей теперь международная марка. — И Дюжева тут же заставили отведать кислой капусты, съесть холодный, остро посоленный с перцем огурец, проглотить скользкий ароматный помидор.