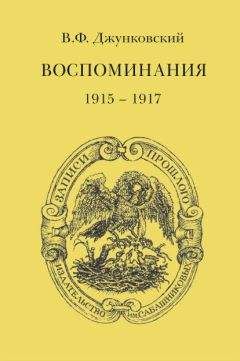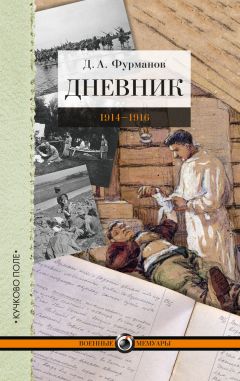«В пятницу», говорит. Это в «Летопись»-то!
Ну, захожу в пятницу — хорошо говорил он со мной часа 1 1/2. Эти полтора часа незабываемы. Они решили мою писательскую судьбу.
«Пишите», говорит.
Я и давай, да столько насшибал. Он мне снова:
«Иди-ка, говорит, в люди», то есть жизнь узнавать.
Я и пошел. С тех пор многое узнал. А особенно в годы революции: тут я 1600 постов и должностей переменил, кем только не был: и переплетчиком, наборщиком, чернорабочим, редактором фактическим, бойцом рядовым у Буденного в эскадроне… Что я видел у Буденного — то и дал… Вижу, что не дал я там вовсе политработника, не дал вообще много о Красной Армии — дам, если сумею, дальше. Но уж не так оно у меня выходит солоно, как то, что дал. Каждому, видно, свое.
А я ведь как вырос: в условиях тончайшей культуры, у француза-учителя так научился французскому языку, что еще в отрочестве знал превосходно классическую французскую литературу. Дед мой раввин-расстрига, умнейший, честнейший человек, атеист серьезный и глубокий. Кой-что он и нам передал, внучатам. Мой характер — неудержим, особо раньше, годов в 18–20, хуже Артема* был. А теперь — мыслью, волей его скручиваю. Работа — главное теперь мне — литературная работа. Воронский, кажется, себе шею уж свернул?
— Да, — говорю, — как будто так выходит.
— Это по всему видно… И за что он любит Пильняка*, - изумился он для меня неожиданно, — за что и что любит — вот не понимаю?!
Мы условились увидеться другой раз. Может, проедем ко мне.
20 декабря
Вчера пришел ко мне Бабель. Сидели мы с ним часа четыре, до глубокой ночи. И перво-наперво об Ионове*. Он только-только был где-то с ним вместе — тот пушил на чем и свет не стоит разнесчастный Госиздат, попавший ему в хищные когти: растерзает, ни пера не оставит, ни пуху! Вулканическая личность, один сплошной порыв, — восторгался Б<абель> экспансией Ионова… Отговорили.
…О журналах. Утомляется читать худож<ественную> литературу, журналов почти не читает, особенно скучнейшие, вроде «Раб<очего> ж<урнала>» — особую симпатию питает… к «Пролетарской революции», где… «так неисчерпаемо много ценного материала»… Отговорили.
Книг хранить не умеет, не любит — дома почти нет ничего. Удивился обилию книг у меня — особо жадно посматривал на сборники из гражданской войны.
…Потом говорил, что хочет писать большую вещь о ЧК.
— Только не знаю, справлюсь ли — очень уж я однобоко думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну… ну, просто святые люди, даже те, что собственноручно расстреливали… И я опасаюсь, не получилось бы приторно. А другой стороны не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяли камеры — это меня как-то даже и не интересует. Все-таки возьмусь! Отговорили.
Главный разговор — о «Чапаеве».
— Это — золотые россыпи, — заявил он мне. — «Чапаев» у меня — настольная книга. Я искренне считаю, что из гражданской войны ничего подобного еще не было. И нет. Но мало как-то книгу эту заметили. Мало о ней говорили. Я сознаюсь откровенно — выхватываю, черпаю из вашего «Чапаева» самым безжалостным образом. Вы сделали, можно сказать, литературную глупость: открыли свою сокровищницу всем, кому охота, сказали щедро: бери! Это роскошество. Так нельзя. Вы не бережете драгоценное. Вся разница между моей «Конармией» и вашим «Чапаевым» та, что «Ч<апаев>» — первая корректура, а «Конармия» вторая или третья. У вас не хватило терпенья поработать, и это заметно на книге — многие места вовсе сырые, необработанные. И зло берет, когда их видишь наряду с блестящими страницами, написанными неподражаемо (мне стало даже чуть неловко слушать!).
Вам надо медленней работать! И потом, Д<митрий> Андр<еевич>, еще одно запомните: не объясняйте. Пожалуйста, не надо никаких объяснений — покажите, а там читатель сам разберется! Но книга ваша — исключительная. Я по ней учусь непрестанно.
Потом я пояснил ему условия, в которых «Чапаева» писал, урывками от работы, укрываясь от партработы частично и т. д. и т. д. — все это опять-таки наложило печать. Потом — материальная нужда тех дней, неугомонное авторское самолюбие, жажда скорее «выйти в свет».
Теперь вижу сам, что, начав в 1922-м, надо было выпускать «Чапаева» не в 23-м, а может быть, только теперь, в 24-25-м году!
Это было бы солоно. И хорошо. А то в самом деле — надо еще многое сделать! И я надумал «Чапаева» обработать — переработать, а кроме того, дать ряд новых глав.
Простились с Б<абелем> радушно. Видимо, установятся хорошие отношения. Он пока что очень мне по сердцу.
13 апреля
ХУДОЖНИК К СЕБЕ — ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СТРОЖЕ
Набросил вот план рассказа — весь материал, казалось бы, известен, лица-типы стоят перед глазами, есть заряд — словом, садись, пиши.
И разом вопросы:
А это знаешь хорошо?
А это изучил достаточно?
А это понял точно?
А вот тут, вот тут, — тут не отделаешься тарабарщиной, измышлениями, плохонькой «беллетристикой».
Встали эти вопросы поперек пути и диктуют: прежде чем не овладеешь материалом, не берись. Легкая болтовня твоя никому не нужна (да и тебя роняет она), лучше обожди, подкуй себя и тогда — вдарь.
Эти сомненья, требованья — серьезный признак роста. Два года назад было не так: темка подвернулась, распалила нутро, сел — и за ночь готов рассказ. А теперь строго.
7 мая
СЕРАФИМОВИЧ
Все гладит, гладит светлую, розовую лысину головы и приговаривает отечески:
— Да, вам вот, молодежи, вольно думать о всяких планах, а мне куда уж — год вот ничего нет, сил не хватает…
— Скажу я вам, Александр Серафимович, материалу у меня, материалу, — вдруг заторопился излить ему радость свою Виктор*, - эх и материалу: кажется, так вот сел бы — полвека прописал. Да! И хватило бы. Я все записываю — все, что случится по пути интересного. И материалу скопилось: ба! Теперь только вот и распределяю: это туда, это сюда, это тому в зубы дать, это этому… Наше писательское дело — вижу я вообще — это по большей части дело организационное: умей все оформить, организовать.
— Правильно! Это вот, брат, так ловко сказал, — вдруг воодушевился Серафимович, хлопнул Виктора по плечу и с горестью добавил: — А я вот, старый дурак, ничего не записывал — все наново приходится теперь собирать. Все некогда, казалось, — да лень эта одна, какое — некогда…
И когда Виктор рассказал ему — что в дневниках, Серафимович жадно-жадно вслушивался, будто все, до строчки, до слова хотел запечатлеть в дряхлой голове своей.
А потом охал, жаловался:
— Кабы не поясница моя, кабы не сердце… Уж этот мне артериосклероз… Надо будет этим летом легкие направить…
Выходило: места нет у него здорового. А все вот шумит, все вот волнуется, все в заботах: толчется в очередях у станционных касс, нюхает по вагонам, на постоялых дворах, у фабричных ворот, на окраинах, — бывает, и к себе зазывает рабочего, за бутылку пива усаживает, слушает, что тот ему говорит, а потом записывает.
26 августа
МОЕ ЗНАКОМСТВО С ЛЕОНИДОМ ЛЕОНОВЫМ
Накоряков Ник<олай> Ник<андрович>* говорит:
— Сегодня придет Леонов, поговорим… Может, книжку возьмем у него… Большой он будет писатель… Вот познакомлю — поговорим…
Я с глубочайшим волнением ждал этой встречи — не знаю, отчего я волновался. Но — да!
Вышел через час, положим, в соседнюю комнату — гляжу, сидит Васька Лаптев. Вы знаете, кто такой Васька Лаптев? Нет? Так я поясню: четыре года назад в редакции газеты МВО «Красный воин» работала вся зеленая молодежь — работал там тогда и В. Лапоть. Писал он, кажется, очерки-стихи. Не знаю, что-то, словом, вроде того. Парнишка приятный и всеми нами любимый: мы там жили стенка в стенку. Наша стенка — это журнал «ВМиР», ихняя — газета. И вот прошло то время! Потом, года два назад или три, пришел я по делу к художнику Фалилееву на квартиру. Глядь — за ширмой у него Васька Лапоть.
— Ты что, говорю, тут делаешь?
— А я, говорит, пишу вот… Живу тут, в этом углу… Пишу…
Что он писал — я мало тем поинтересовался, думал, что по-старому, из агиток этих. Я ему тоже пояснил, что пишу-де, но мало интересовались оба, кто что пишет. Были мы в общем тогда с ним вместе часа три, поминали добром старую нашу жизнь за стенками — через стену. Ну, ладно. С тех пор Ваську я не видел ни разу. Но это все лишь присказка — сказка впереди. Сидим мы с Никандрычем, работаем, позабыл уж я вовсе про то, что Ваську видел в комнате рядом, — на ходу мы поздоровались, улыбнулись один другому. Только Васька-то и входит вдруг, входит, а Никандрыч встал, да и говорит мне:
— Дмитрий Андреевич, позвольте вас познакомить: это Леонид Леонов… писатель…