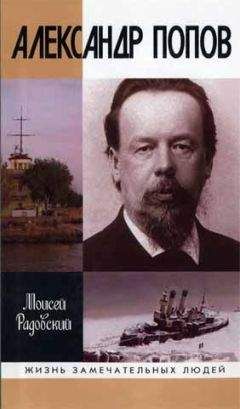Воленко возвратился на первый день праздника. Удивляясь, наверное, горожане, почему это первомайцы с демонстрации не домой пошли через Хорошиловку, а в противоположную сторону, к вокзалу. На широкой и красивой вокзальной площади они выстроились. Совет бригадиров и Захаров пошли к самому поезду, а когда они вышли на площадь вместе с Воленко, их встретили знаменным салютом. Двести пар глаз смотрели на Воленко, и не было ни одной пары, в которой ни кипели бы слезы. И горожане смотрели на первомайцев и удивлялись: почему это такой стройный отряд мальчиков и девочек под музыку замер в салюте и почему так заметно у них по щекам сбегают слезы? А потом поняли горожане, что это им показалось: когда дал Захаров команду «вольно» и все бросились здороваться с Воленко, а многие и целоваться, поняли горожане, что у колонистов не горе, а радость сегодня. Воленко прошел по фронту колонистов, тонкие его, строгие губы улыбались и с благодарностью к товарищам, и с гордостью за свою колонию. А когда опять стали колонисты в строй, вышел вперед Игорь Чернявин и, не обращая внимания на зрителей, на праздничную и счастливую, нарядную[298] толпу, сказал:
– Дома будем говорить подробнее. А сейчас просим Воленко принять сегодняшнее дежурство по колонии. Нам будет приятно, если в день великого праздника дежурным бригадиром будет бригадир первой.
И тут же на площади Руднев и Воленко вытянулись перед заведующим. Руднев сказал:
– Товарищ заведующий! Дежурство по колонии бригаду первой бригады Воленко сдал.
И Воленко сказал:
– Товарищ заведующий! Дежурство по колонии от бригадира десятой Руднева принял.
И было так радостно всем колонистам услышать голос Воленко, и казалось многим, что все прошлое было сном, и не было никакого Рыжикова, и не было никакого горя у колонистов. И еще радостнее было возвращаться домой через торжественный город, ставить легкую танцующую ногу под счастливый серебряный марш и видеть краем глаза, как любуются люди на тротуарах колонной первомайцев, и гордиться своей удачей в прошлом и своей удачей в будущем. Вечером на собрание приехал Крейцер, поздравлял колонистов с праздником, с возвращением Воленко, а потом сказал:
– Дорогие друзья! Только не успокаивайтесь. На своей шкуре вы почувствовали, как трудно бороться с врагом. Разве у вас Рыжиков не был бригадиром первой? Разве вы не тянулись перед ним и не говорили «есть, товарищ дежурный»? А он вовсе был не товарищ, а если и был дежурным, так это был дежурный враг. Смотрите, вы теперь знаете, что такое враг и сколько он зла может принести. Враг никогда не придет к вам сереньким и скучным. Он всегда будет в самые глаза ваши пролезать, в самую душу проникать, он всегда постарается вам понравиться, он захочет кое-что сделать для вас, чтобы вы считали его своим товарищем. А вы смотрите внимательно, вы уже многому научились. Есть у вас такой Подвесько. Слышал я, он провинился перед вами, а вы его даже не наказали. Правильно, потому что провинился по неопытности и по ошибке. Смотрите и дальше разбирайтесь в этом. И вам это нужно, и Советской стране.
Теперь колонисты за каждым словом видели сущность вопроса. Они видели, как опасен и скрытен может быть враг, и они готовились встретить его в жизни с неприкрытой, уничтожающей ненавистью, встретить в самом начале его предательства.
Не прошло и месяца, как вместе со всем Союзом они увидели страшный смертельный взмах вражеской руки и на всю жизнь запомнили это видение.
В этот день Захаров вышел из своей квартиры поздно. Ночью он работал и, уходя спать, сказал часовому, что на поверке не будет. Правда, он слышал сигнал побудки, но не спешил. Выйдя во двор, он по привычке остановился у дверей и бросил общий взгляд на колонию. Было еще темно, но уже краснело небо на востоке. На фоне зари он видел флаги на башнях главного корпуса и… что-то странное происходило с флагами. Один из них вдруг начал опускаться. На фоне красной зари он казался черным, спускаясь, он вздрагивал, и его узкий конец подымался кверху. На середине флагштока он остановился, и начал спускаться второй флаг. Захаров с усилием старался вспомнить: второе декабря… нет… что-то случилось! Он побежал к главному зданию. Среди темных кустов цветников на него налетел Игорь:
– Что такое… Почему флаги?
– Киров… Алексей Степанович! Киров… убит!
– Что… Откуда знаете?
– По радио сейчас только…
Захаров вбежал в здание. Растерянная толпа колонистов забила весь вестибюль. Говорили шепотом, чего-то ждали, на диванчике тихо плакала девочка, повалившись лицом вниз. Дежурный бригадир Оксана Литовченко проталкивалась к Захарову:
– Алексей Степанович, не могу дежурить.
– Как это «не могу»?
– Я не могу, Алексей Степанович!
Захаров понял, что от нее толку уже не добьешься. Она упала[299] с рыданиями на диван, повторяя одну и ту же, ставшую уже бессмысленной, фразу:
– Ой, не могу, ой, не могу, Алексей Степанович!
Он стал отстегивать ее повязку, она забилась на диване:
– Ой, не могу! Если они будут убивать, если они будут стрелять… Кирова стрелять…
Колонисты смотрели на Оксану с молчаливым испугом, их глаза напряглись в неподатливых поворотах, они хотели быть мужчинами, они не хотели дать волю слезам. Захаров отдал повязку Игорю.
– Кому дежурить? – спросил Игорь.
– Дежурить? Захаров забыл, что он хотел сказать. – Дежурить… Ты о чем меня спросил?
– Кому дежурить?
– Ага… – Захаров хотел сообразить, и что-то мешало ему. Он, наконец, нашел выход:
– Дежурь сам. Понимаешь, сам дежурь. Сейчас… ага! Общее собрание немедленно. Оркестр. Знаменная бригада… Да… Креп… пошли ко мне домой… Креп на знамя.
Захаров прошел в кабинет. На всех диванах в комнате совета и в кабинете сидели малыши и молчали, заложив руки между колен. Они сидели тесно и неподвижно? При входе Захарова встали машинально и машинально подняли руки, а потом снова опустились на диван и снова заложили руки между колен. Захаров не обратил на них внимания, сел за стол и задумался. Наконец догадался:
– Расскажите… подробнее, что передавало радио.
Малыши с большим трудом, помогая друг другу, рассказали ему о том, что слышали. Донеслись сигналы[300] общего сбора и сбора оркестра. Малыши сорвались с дивана и побежали в зал, но и на бегу они сегодня были как бы неподвижны. Общее собрание началось в подавленном, тяжелом молчании. Встретили знамя, увитое черным крепом, обернулись к Захарову:
– Товарищи! Страшное горе и страшное преступление… Оказывается, мы даже не знали, какие есть подлые враги, сколько еще злобы и ненависти против нас, против нашего государства, против наших вождей. Теперь вы понимаете, что это такое, товарищи колонисты?
– Понимаем! – ответили как один двести колонистов, ответили негромко, единодушным задумчивым ропотом. И сорок трубачей заиграли революционный траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой…», потом шопеновский марш, марш торжественной скорби. Увитое горестным крепом бархатное красное знамя склонилось. Вышел вперед секретарь совета Игорь Чернявин и сказал:
– Жизнь наша… и наше счастье, товарищи, в наших руках. И из наших рук его хотят вырвать. Стреляют! Сволочи, они убили Кирова, они думали что? Они думали: одних убить, других запугать, третьих обмануть! Они так думали! А для чего? Для того чтобы вернулась старая жизнь, которая им нравится, потому что в той жизни они будут хозяевами, а мы будем у них рабочей скотиной! Мы будем рабочей скотиной? Они не знают, гады, они не знают, что мы уже привыкли быть людьми, настоящими людьми, рабочей скотиной мы теперь не сумеем. Так мы и скажем: синьоры, мы не умеем, до свиданья! Алексей Степанович! Партия! Колонисты! Скажите, что я правильно говорю: и сейчас, и когда вырастем, и всегда будем помнить товарища Кирова, и всегда будем помнить, кто его убил и для чего! И не простим, и не пощадим, уничтожим каждого, кто станет на нашей дороге. Только я говорю: не нужно ждать момента, не нужно ничего ждать. Каждый день, каждый час думать об этом. Теперь мы еще лучше знаем, для чего наш завод! Наш завод – это вооружение, это борьба, это новые люди, и такие люди, которые не подкачают и ничего не простят. Нестеренко поехал в авиастроительный, Колос поехал в университет, Миша Гонтарь сел за машину – никто не пошел в рабы и не пойдет. А этот день будем помнить. Я не знаю, что сказать, я хочу, чтобы этот день, как тревога, понимаете, как сигнал тревоги, мы всегда слышали. Я предлагаю: до той минуты, когда будут хоронить товарища Кирова, пусть наше знамя здесь, возле Сталина, стоит, пусть стоит склоненным, и мы станем с винтовками. Пусть каждый колонист будет помнить, как он стоял на страже возле нашего знамени.
И двое суток стояло бархатное знамя колонии им. Первого мая, и день и ночь через каждые пятнадцать минут сменялись возле знамени парные часовые. Они стояли смирно с винтовками в руках, в парадных костюмах, только воротники белые сняли в знак траура. И до поздней ночи сидели на бесконечном диване в «тихом» клубе колонисты, а пацаны сидели на ступенях к бюсту Сталина и говорили шепотом.