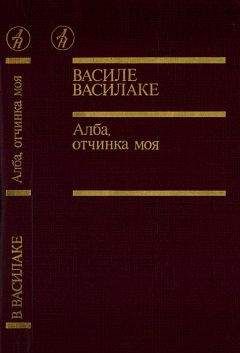Слова, надо прямо сказать, неожиданные, неслыханные даже: лукавство — метод исследования действительности! Ладно бы там юмор или сатира — это куда ни шло, с понятием «метод исследования» эти так называемые художественные средства как-то, пусть и с оговорками, соотносимы все-таки. Но лукавство!?
И тем не менее в этом высказывании одного из авторитетнейших представителей современной молдавской литературы названо нечто чрезвычайно существенное, глубоко характерное для прозы Василаке. Печать добродушно-невинной хитрецы (что и зовется лукавством) лежит на каждой буквально фразе, и, похоже, если бы Василаке даже очень захотел написать что-нибудь «толстовское», у него ничего не вышло бы, а получилось бы все равно что-нибудь… «василакское».
Даже в прямых авторских описаниях — каким бы нейтральным или серьезным ни был предмет описания — сквозит этот всепроникающий озорной и хитроватый взгляд повествователя.
«Женщины сидели на деревьях и, словно сговорились, взяли да надели белые платки, а ветер как ветер — эти платки полоскал. Казалось, будто стая лебедей отдыхает в саду, на солнце, и хоть говорят, что лебеди не садятся на деревья, но если это красиво, попробуй сказать: нет!
Под деревьями паслись свиньи.
Свиньи — и они были белые, сытые, потому что недалеко было озеро и ферма».
Это — авторский голос.
А вот голос рассказчика из. «Элегии для Анны-Марии»:
«Позавчера, в воскресный день, прямо с утра пораньше, вдруг истошно затрезвонили колокола, а над ярмаркой в Унгенах, над тамошним кладбищем стали рваться снаряды и шрапнель. И взмыли в воздух, к небу, коровы и овцы, прямо с недожеванной жвачкой в зубах. Были они привязаны к забору корчмы, где их новые хозяева только что звенели стаканами, благословляя будущий приплод… И вот теперь, под оглушительный грохот, летели в воздухе — кресты, и копыта, и останки прадедов из развороченных могил…»
Эти два голоса почти неразличимы.
Добродушная ирония Василаке уравнивает всех, кого он изображает, и этот тотальный демократизм не ограничивается сферой человеческих отношений, он распространяется на весь мир: растения и животных, птиц и насекомых. Камыш, муха, комар, ковыль, солнце, луна, бык, овод, пудель — ведь это все тоже персонажи Василаке! Причем индивидуализированные: у каждого свой характер, своя речь, интонационно и лексически отграниченная от любой другой речи, в том числе и авторской. Иногда, правда, за безобидным с виду лукавством проглядывает довольно ядовитая язвительность: фигура «академика» в «Сказке…» — явная мишень, в которую летят стрелы авторской иронии — издевки, задевая одновременно какие-то, очевидно, несообразности, существовавшие, когда писался роман, в Молдавской академии наук, хотя с той же вероятностью можно предположить, что насмешке подвергается некая условная «академическая» романистика, для которой каноны композиции и сюжетосложения, стилевого единства и мотивированности повествовательного потока являются «священными»; овод, зудящий над ухом бычка, — карикатура, возможно, на городского интеллектуала, осведомленного о пристрастиях «Великого Хэма» и периодах творчества «великого Пикассо», сведущего в латыни и последних достижениях генетической селекции, надоедливого, как… овод. Все это так. Но только в общем интонационном строе произведения подобные саркастические выпады утрачивают свою разящую сатирическую силу, сообщенную им замыслом автора, и волей-неволей попадают во вселенскую «республику Василаке», где все живое имеет одинаковую цену, потому что — живое. Впрочем, мертвого в художественном мире Василаке нет, мертвое — условность, призванная отделить одно качественное состояние жизни от другого. И совершенно невозможна в этом мире идея, рефреном звучащая в «Подгорянах» И. Чобану: «живые с живыми, мертвые с мертвыми».
В беседе с критиком Ал. Горловским («Литературное обозрение», 1984, № 12) В. Василаке, в частности, говорил о том, как писался роман «Пастораль с лебедем».
«Довольно давно, будучи еще начинающим литератором, я написал рассказ „Бдения по усопшему на выселках“. Мне показалось заманчивым изобразить посмертную жизнь человека, совершающуюся в сознании и разговорах оставшихся в живых. Такой своеобразный фантом: человека нет и в то же время вроде бы он есть — продолжает влиять на живущих, ссорит их, мирит…
„Сведущие“ люди, прочитав, почему-то сказали: „Это „Смерть Ивана Ильича“ на импрессионистский лад“. И… не напечатали».
Сведущие оводы…
Но речь сейчас о другом. О «посмертной жизни человека» в памяти живых — не безразличной, не фактографической памяти — в активном, заинтересованном обсуждении его жизни — как если бы он не умер, а просто совершил что-то из ряда вон выходящее. Смерть Георге Кручану — такая же загадка для его односельчан, как избиение им увечного старика, нелепая выходка, не более того. И хочется эту загадку разгадать…
«Вот помирает Кручану, и что-то заставляет всех их — близко его знавших людей — поднатужиться мыслью… чтобы непременно уразуметь намерения и поступки покойного. Неужели Кручану морочил село своей дурью? Спать спокойно не давал. А теперь будто рядом с ними сидит, на самом почетном месте, да вроде бы еще и кукиш держит в кармане… А что в его жизни было такого особенного: ну, разрушил дом в центре села и перебрался на выселки (стало быть, мужик был хозяйственный!); и вот, наконец, помер — и все?.. Может, они чего-то самого главного не понимают или недоговаривают?»
Так размышляет Тудор Бостан, жених, во время свадебного сговора, человек «активной» жизненной позиции (то есть рассудочный). В его отстраненном взгляде на происходящее яснее и четче проступают мотивы, заставляющие родственников жениха и невесты вглядываться в жизнь Георге Кручану. Не только, да и не столько желание понять, добрым или злым человеком был покойный, не только запутанная ситуация с похоронами (как хоронить, когда и где?), вызванная неясными обстоятельствами смерти Кручану: сам по себе скончался или на себя руки наложил? — не только все это поддерживает разговоры вокруг личности усопшего, но, главным образом, загадочность самой смерти как таковой, ее непонятность и неприемлемость для человека. Рассудок знает: все смертны, а душа не верит. Василаке как будто повторяет мысль Метерлинка (в «Синей птице»): человек жив до тех пор, пока его помнят. И нагнетанием споров вокруг Кручану автор повести как будто настойчиво внушает нам: все живы, пока вы их помните, и вы будете жить столько, сколько будут помнить вас. Говорите, говорите о Георге Кручану. Говорите обо всех ушедших…
Такая позиция носит высокое имя — Любовь.
«А не приведет ли такая позиция к пассивности художника? Не умалит ли активность авторского начала?» Вопрос Ал. Горловского — от лица, разумеется, вымышленного оппонента-догматика.
Ответ Василаке — от самого себя:
«Это любовь-то пассивна? Да любовь — самое что ни на есть активное чувство в мире! Все лучшее, доброе, человеческое, что было когда-либо создано людьми, рождено их любовью. Даже ненависть к врагу, ненависть к смерти, к ракетно-ядерной войне — от любви. Нет любви — нет и ненависти, а только опустошающая злоба и злобность.
Я убежден: человек всесилен лишь тогда, когда он любит, когда он добрый. Именно доброта всесильна. Это известно людям с древнейших времен.
Вчитайтесь в древнеиндийские Веды, в легенды, в народные сказки Азии, Европы, Америки, Африки, Океании — всюду животворящее и всепобеждающее начало — любовь, доброта. Доброту не философы, не Толстой или Ганди придумали, а сама жизнь».
Это не только вообще справедливое, но и важное для понимания философской концепции Василаке-художника замечание: не Толстой и не Ганди, а сама жизнь. Здесь надо только помнить, что «сама жизнь» у Василаке — это не вся жизнь, и не любая, а именно та, что являет собой основание всего многоэтажного общественного здания, опору всей разнообразной жизни.
Любовь матери к сыну — не из книг и не от проповедей, она — от самой жизни. Сила любви Анны-Марии к Аргиру («Элегия для Анны-Марии») почерпнута не в романах, иначе неизвестный убитый солдат не приобрел бы в глазах женщины облик возлюбленного: книжная любовь рассудочна, истинная — сердечна. Для рассудка все мертвое — мертвое, для сердца все, что в нем живет, — живое… Каким-то образом попал в любящее сердце Анны-Марии кенигсбергский профессор Иммануил Кант, и добрая женщина, беспокоясь, что у старого профессора, возможно, мерзнут ноги, посылает ему шерстяные носки! Смешно? Может быть. Но это тот случай, когда от смешного до великого — один шаг…
Вновь вспоминается то давнее суждение Иона Друцэ об отличительных признаках прозы Василаке: не только о лукавстве как методе исследования действительности шла речь…