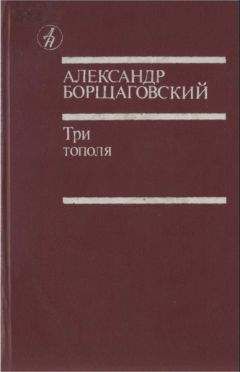В цифрах Воронок не силен; ему и три тысячи литров не представляются чем-то осязаемым — пять тысяч, верно, лучше, и четыре неплохо, а еще он помнит время, когда в колхозе криком надрывались, обещали с двух тысяч сдвинуться.
— В лесу черти водятся, Александра! — объявил он, наматывая конец кукана на ладонь и готовясь бежать к пароходу. Подумалось ему, уж не Капустин ли так занудил Сашку: ведь, что ни зорька, толкует с ней, наставляет, верно, как жить. — От учителя в лес бежишь, уел он тебя разговорами! — пошутил Воронок.
— Была печаль! — защитно откликнулась Саша и не сдержалась, ухватилась за его свитер выше локтя, будто оступилась и боялась упасть, шепнула потерянно: — Уезжает Капустин…
— Ну!.. Погостевал, и хватит: ни богу свечка, ни черту кочерга. — Ему не терпелось бежать: а что, как и другим пофартило, пока он тут топчется, и не он будет первым?
— Совсем едет! Уезжает, — повторила Саша, ничем не защищенная перед Воронком, словно не чужому открылась, а брату, родной крови, пальцы сжала, сама того не ведая, так, что не отнять рукава, не вырваться.
— Тебе-то что?! — Он искал легкого выхода. — У тебя свой дом, Александра, ты всему хозяйка, а он бегать привык… Не впервой.
Она все принимала: и притихавшую в нем шутку, и напускную строгость, почти угрозу в том, как он произнес ее имя, — принимала, мирилась, а губы плакали при сухих, отчаянных глазах. Что он знал об Алеше и о ней, об его отъезде из деревни?
— Уж ты под венец зашла — держись. — Голос Воронка потеплел, в нем пробивались и сострадание и готовность понять, но сильнее была в нем неумолимость жизни, простая и неотменимая. — Живешь хорошо, в достатке, свекровь у тебя — добрее не найти, чем не праздник! — Хотел еще об Иване сказать, но удержался: Ваню она лучше его знает, ничего он ей не откроет.
Рука Саши отпустила его. Она стиснула побелевшие губы, присиливая себя молчать, покачивалась легонько в печали и раскаянии, в душевной боли, которая так нескладно выплеснулась при Воронке.
— Уехал он от нас, Сашка, давно уехал, уже мы крест на нем поставили… — Он успокаивал ее и нетерпеливо топтался, готовый сорваться с места, озираясь ; на клокочущую рядом воду. — И ты забудь. Он кому хочешь мозги забьет, а тебе с ним детей не крестить…
Воронок неумело погладил Сашу по голове, не заметив, как она дрогнула и поникла под его рукой, и бросился к воротам, на свой сегодняшний подвиг. Но, перейдя на другую сторону шлюза, шагая по его бетонной кромке к медленно оседавшему пароходу, он все смотрел вправо, ждал, когда Саша, совладав с собой, появится там на тропинке, протоптанной к плотине, смотрел в ее понурую спину и недобро думал о Капустине, с отцовской, непозволительной ему, бобылю, ревностью, с раздражением, которое так редко случалось ему.
Добежал до парохода, суетливо кинулся по сходням вверх, едва не сшибся с палубным матросом, покачнулся — сходни были без перил, — махнул, удерживая равновесие, ногой, и ботинок сорвался в темную щель между бортом и стенкой шлюза.
Воронок не стал и заглядывать вниз. Поковылял к буфету, прикидывая на ходу и этот расход: придется присчитать к покупкам и ботинки. Поколебался, куда бежать, на кухню или в буфет, и выбрал буфет: и ближе, и буфетчица на «Николае Некрасове» вроде бы совестливая женщина с синеватыми запавшими кругами у виноватых, всегда обиженных на жизнь глаз. Она в руке прикинула вес, назвала честно — только что округлила немного — четыре кило и, сбросив рыбу с проволоки под стойку, прихватила бутылку водки и пива. Но Воронок под недоуменные взгляды шлюзовских, толпившихся у буфетного окошка, попросил деньгами. Пришлось повторить: Яшка и сам себя плохо слышал, кажется, что кто-то другой, другим голосам просит денег, а не вина.
Сунул деньги, едва протискивая руку, словно в чужой карман недомерку, купил бутылку ситро и московскую сайку, сошел на траву у шлюза и, зажав под мышкой уцелевший ботинок, позавтракал, глядя на опускавшийся в шлюз пароход, где, затихая, билась об буфетный линолеум его рыба, а еще ниже стоял на дне ботинок. Успел спуститься в буфет и сдать бутылку: теперь всякая копейка у него на счету.
На обратном пути, на стрелке между Окой и шлюзом, спрятал второй ботинок под перевернутую лодку. Он привык доверять себя реке, оставлять вещи и снасти где ни попало, будто в избе; так и сейчас один ботинок лежал неудобно, под водой, другому он сам определил место, и все оставалось при нем.
Воронок один ушел к пароходу с рыбой, и теперь его поджидали на устое. Прокимнов выложил из пиджака на деревянный щит четыре конфеты в бумажке, у водолаза нашелся в сумке хлеб и горсть солоноватых, вяленных на солнце уклеек. А Воронок вернулся непонятный: трезвый, без бутылки, босой, и на покалеченную руку намотан кукан. От Яшки попросту отвернулись — велика была обида! — не стали ни расспрашивать, ни корить. К плотине подошла рыба, на струях играл жерех, выпрыгивал из воды, громко ударял по ней.
Река и днем не поскупилась, Воронок так и не ушел к пойменному берегу, оставался здесь, при кукане, на бешеном пролете воды, с тремя крупными, каждая за килограмм, рыбами. Особенно тяжел был язь, о таких тут охотно вспоминали, но брали редко, и каждый рыбак, только еще подходя к плотине, узнавал об Яшкином язе и первым делом шел к его кукану, подтаскивал из глубины, любовался пестрым красавцем.
Под вечер ждали парохода снизу, из Горького, голодный Воронок уже видел себя у заветного окошка, как он снова требует за рыбу денег и просит, чтоб не рублевками, а одной пятеркой, и знакомая буфетчица — незнакомых на здешней линии не оставалось — ушам не верит, а он берет как ни в чем не бывало белую булку и молока. Отчего бы ему не выпить пол-литра молока, если одна Саша хочет взять с коровы пять тысяч литров! Молоко-то, выходит, ихнее, кому же и пить. Едва он подумал о полулитре молока, как и неудобное, неясное число — пять тысяч литров — обрело живую плоть: вышло по бутылке на каждого солдата дивизии, и не по выбитой, скудной, а полной дивизии, как ее представлял себе Воронок. Вот она, буренушка, одна, пусть и в год труда, а напоит такую непомерную силу — дивизию!..
Но не пришлось Воронку забежать по трапу в нагретое солнцем и машинами чрево парохода. В седьмом часу, когда пароход затрубил снизу, Воронок был уже без денег и без рыбы, но в ударе, летал, как ему казалось, по устою, а на деле пошатывался на неверных, больных ногах. Он и прежнюю трешку с рублевкой не смог вытащить из штанов; когда решили сгонять в магазин, смуглой рукой залез в его карман Прошка, легко выудил бумажки. Теперь Воронку все его будущие покупки — а он их твердо держал в уме — казались и вовсе легкими: рыба ему идет, уже и на этом берегу нашлось для него счастливое местечко, завтра он обловится, и деньги при нем, сколько захочет, столько и поднакопит, никто ему не указ, он один своим деньгам распорядитель и хозяин. Изредка маячили перед ним укоряющие глаза Веры, но он приноровился мирно, одним ласковым прикосновением отсылать ее на гору, в избу, — там их общее место, а здесь с ним река…
Поскользнулся Воронок на даровом вине.
Среди дня налетели на устой веселые парни, новички в здешнем краю, шебутной, городской народ, с прибаутками и бесхитростными улыбками, сапоги резиновые, новенькие, не то что болота или грязи, чистой воды не пригубили еще. И снасть такая же, у каждого новомодная «шарманка», бросай и крути ручку, «бороды» при этой катушке не бойся. Здешние помалкивали, никто не открыл им, что при малой, безынерционной катушке тут на зацеп сядешь сразу, как ни накручивай ручку, здесь большая «невская» катушка нужна, чтобы снасть пролетала быстрее и повыше. Скоро все они дергались на мертвых зацепах, оборвались и раз и второй, но не злобились, стали ходить к рыбацким куканам, охать и ахать, похваливать чужую рыбу.
Так, без обиды на судьбу, они и принялись закусывать, достали из рюкзаков диковинную «пшеничную», такой Яшка и в Рязани не видел, даже и порожней такой бутылки в витрине не попадалось еще ему — в ней, светлой и хорошей, под литр подходило. Все, кому поднесли, выпили: и водолаз с ребячьими ямками на розовых щеках, и суровый Прокимнов — не отказываться же одному Воронку. Пил он медленно, будто и зарока не нарушал, а только осведомлялся, пробовал, может, шутил, узнавал неведомое, а что как «пшеничная» для его нутра вовсе и не вино, а ситро буфетное? Один Рысцов не потянулся на даровщинку, и Воронок позавидовал было его характеру, но после второй порции жалел и даже презирал Рысцова.
Прохор не выпил и потом, когда наученные Воронком парни перешли на пойменный берег и там пытали удачу кто удочками, кто на «шарманку» в «тихой», а Воронку пришла нужда помочь шлюзовским, чтоб не один он, а все были в норме; у него и деньги в кармане, и рыба под устоем, и ничего этого ему не жаль. Рыбу загнали тут же по дешевке, и собралось на пол-литра, на пиво и полкило карамели.