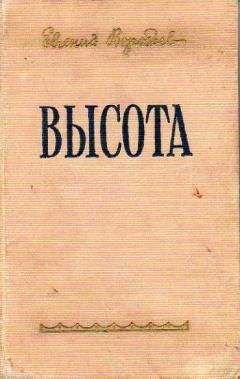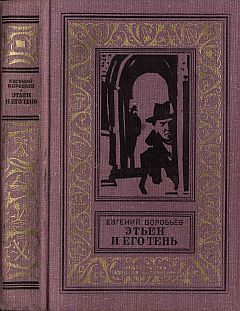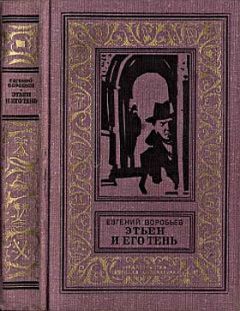— Меня-то чего пугаться? — сказал Левашов сухо и протянул портсигар.
Страчун какое-то мгновение оставался в нерешительности, но затем протянул руку и взял папироску так неловко, будто она была зажжена уже в портсигаре и можно обжечь о нее пальцы.
— Зря ему папироски дарите, — заметил Павел Ильич, когда они отошли от избы. — Он бы у меня зимой снегу не допросился.
Павел Ильич презрительно сплюнул и локтями водворил на место сползающие галифе...
Вечером в школу, по обыкновению, пришел послушать радио Иван Лукьянович. Он редко пропускал последние известия и все старался поймать международный обзор.
Левашов показал Ивану Лукьяновичу границы минного поля и, между прочим, рассказал о беседе со Страчуном.
Иван Лукьянович вскочил с табуретки и заковылял по классу.
— Насчет обоза — это он правду сказал. Всю жизнь в обозе прожил. И на фронте то же самое. Даже до ефрейтора не дослужился. Без единой медали домой явился. За сына, и за того, наверно, не рассчитался. Есть у нас бабы в колхозе, которые больше пользы принесли. По крайней мере, в лес партизанам продукты носили за тридцать километров. А почему так получается со Страчуном? Самолюбивый человек. Сам себя слишком любит. И всю жизнь мимо рубля за пятаком ходит. Еще уборку не закончили — лошадей стал требовать, лес возить. Конечно, в землянке живет. А чем другие хуже? Разве другие под крышу не торопятся?
Иван Лукьянович долго ходил из угла в угол, нахмурившись, сердито стуча палкой. Потом сел и тяжело ударил рукой по парте.
— Ты на посох мой не смотри. Это я только притворяюсь хромым. Я ведь хитрый! Можешь на меня в своем деле облокотиться. Могу еще помощников представить. Правда, штатские будут люди или из женского сословия. Может, нам кузнец Зеркалов поможет, тоже человек фронтовой, партийный...
— Обойдемся вдвоем, Иван Лукьянович. Тем более связные у меня — орлы. Такие не подведут!
Левашов подмигнул в сторону Саньки и Павла Ильича. Они тесно, касаясь друг друга висками, сидели на одной парте, как на уроке, и, пришептывая, читали книжку.
Санька, услышав похвалу, приподнял было голову, но, очевидно, получил тумака в бок, потому что порывисто и еще ниже, чем прежде, склонился над книжкой. Павел Ильич притворялся, что ничего не слышит и всецело занят чтением.
Глаза Левашова весело заблестели, а Иван Лукьянович улыбнулся, показав жемчужные зубы, но тотчас же прикрыл рот рукой и спросил деловито:
— Лошадь нам не потребуется?
— Попозже.
— Та-ак. Утречком заеду. Сейчас по хозяйству отправлюсь.
Уже в дверях Иван Лукьянович попросил:
— Если до последних известий досидишь — расскажешь. Особенно мне этот Миколайчик на нервы действует, будь он неладен совсем вместе со своими родителями...
По радио передавали лекцию, причем лектор говорил таким скучным голосом, будто и сам себе надоел до смерти. Затем начался радиорепортаж о футбольном матче со стадиона «Динамо». Оказывается, в Москве дождь. Левашов отчетливо представил себе лужи на поле стадиона, тяжелый, скользкий мяч, потемневшие майки футболистов. В такие дни тысячи тесно раскрытых зонтов делают трибуны похожими на черные соты. Пестрят голубые, зеленые, оранжевые, красные, синие дождевики, недавно вошедшие в моду. В дождливый августовский вечер темнеет раньше, и к концу матча видны огоньки папирос — они светлячками мигают на трибунах.
Рев стадиона отдавался в радиоприемнике каким-то хрипом, шипением, треском. Левашов невольно поддался азарту, он напряженно вслушивался в пересыпанную междометиями, рваную речь комментатора.
Мальчики тоже подошли к радиоприемнику, но сидели равнодушные; они никогда не гоняли мяча, не видели, как играют в футбол.
— Театр интереснее слушать, — сказал Санька, подавляя зевок. — Особенно если театр для детей и там...
— Для взрослых интереснее, — перебил Павел Ильич. — В детском театре тетеньки пищат, будто мы маленькие и не понимаем!..
Когда мальчики ушли, Левашов прибавил огонь в лампе и взялся за учебник.
Левашов сидел на парте, задумчиво обхватив колени, когда вошла девушка. От неожиданности он со стуком вскочил с парты, совсем как шалун-школьник, захваченный врасплох учительницей.
— Сидите, сидите, пожалуйста, — остановила она его тоном учительницы, которая оторвала ученика от приготовления уроков.
— Глеб Левашов.
— Очень приятно познакомиться. — Девушка протянула руку и улыбнулась. — Елена Климентьевна. Простите, школьная привычка. Зовите просто Леной. Ну как устроились? Почему от моего угла отказались?
— Спасибо, и здесь хорошо. А потом, — Левашов показал глазами на учебник, лежащий на парте, — обстановка больше к занятиям располагает.
Оба засмеялись, вспомнив, в какой нелепой позе сидел он на парте, как вскочил, приподняв ее с собой, с каким трудом высвободился из парты. Левашов смеялся громко, а Елена Климентьевна беззвучно, про себя.
Ужин свел обоих в комнатке Елены Климентьевны.
Светлые волосы, добела, как у Саньки, выгоревшие на солнце, схвачены в узел на затылке, загорелая шея открыта. Чуть выгоревшие брови выделялись на смуглом глянцевитом лбу, не знающем ни веснушек, ни морщинок. Нос слегка вздернут, еще чуть-чуть — и ее можно было бы назвать курносой. Глаза то светлели — и тогда были голубые, как у Саньки, то темнели — и становились синевато-серыми.
Переговорили уже о цветной кинематографии, о приготовлении ухи, о пенициллине, о сопротивлении материалов, о светящихся часах, о хоре Пятницкого, еще о чем-то и, наконец, о разведении помидоров на Смоленщине.
— Пусть хоть по самой земле расстилаются, а все-таки будут у нас помидоры! Правда, в этом году рассада померзла. Что же, подождем еще годик. Люди на своих ошибках учатся.
— Не всегда. Наш брат, сапер, например, на своих ошибках никогда не учится. Опаздывает.
Левашов взглянул на часы, резко встал из-за стола, поблагодарил и торопливо стал прощаться.
Елена Климентьевна удивленно посмотрела на него и заметила, что он чем-то встревожен.
— Доброй ночи, — сказал Левашов уже в дверях.
— И вам также.
— А мне бы вы лучше доброго дня пожелали.
И он осторожно закрыл за собой дверь, притворившись, что не заметил вызванного им недоумения...
Левашов проснулся чуть свет от неясного беспокойства. Вначале он не мог сообразить, откуда взялось это противное ощущение тревоги, но тут же вспомнил, что пришло время отправляться на луг.
«А почему надо идти сейчас? Почему бы не выспаться хорошенько и не отправиться попозже? И почему это обязательно нужно сделать сегодня, а не завтра, послезавтра? В конце концов это мое дело. Хочу — пойду, не хочу — не пойду. Я никому ничего не обещал, ни перед кем не обязан отчитываться...»
Чтобы не поддаться сомнениям, Левашов быстро оделся. Он подошел к классной доске, взял мелок и написал: «С добрым утром!», затем вышел на цыпочках, напуганный скрипом половиц и двери.
«Нашел чего путаться! — рассердился он на себя. — Будто мне сегодня нечего больше бояться, кроме скрипа половиц».
Он походил на заправского рыболова, только к удилищу был пристроен обруч с коробочкой посредине.
Нитяжи спали в предутренней тишине. Но то была не гнетущая тишина фронтовой деревни, забывшей лай собак, пение петухов, скрип колодезного журавля. Кое-где над избами и блиндажами уже подымались дымки, а голосистые петухи кричали свое «кукареку» так раздраженно, словно люди просили разбудить всех пораньше, а теперь почему-то ленятся вставать и заставляют их, петухов, надрываться от крика.
Левашов боялся замедлить шаг, чтобы не было времени передумать.
«Неужели и дед Анисим переживет меня?» — мелькнула мысль, когда проходил мимо знакомого дома.
Страчуна еще не видно было на крыше избы или где-нибудь около нее.
«И правильно сделал, что отказался, — без малейшего раздражения подумал Левашов. — По крайней мере, будет жив-здоров».
За дальним лесом вставало солнце. Верхушки берез были розовыми, розовые отсветы ложились на светло-зеленое небо.
Чем ближе он был к реке, тем сильнее пахло влажной прохладой, густым настоем трав и запахами сырой земли, остывшей за ночь.
У флажка Левашов опускается на колени. Отброшены в сторону пучки срезанной травы. Где же мина? Левашов шарит рукой по дерну, осторожно разгребает влажную землю и натыкается на что-то твердое. Угадывается выпуклая крышка противотанковой мины. Пальцы нащупывают взрыватель, чеки нет.
Левашов вытирает пальцы и ладонь о гимнастерку и достает из кармана гвоздь. Лишь бы не задрожали руки — сапер касается сейчас кончиками пальцев самой своей жизни.
Он пытается вставить гвоздь в отверстие, но оно забито землей. Левашов выдавливает землю гвоздем, наконец-то гвоздь входит в отверстие.