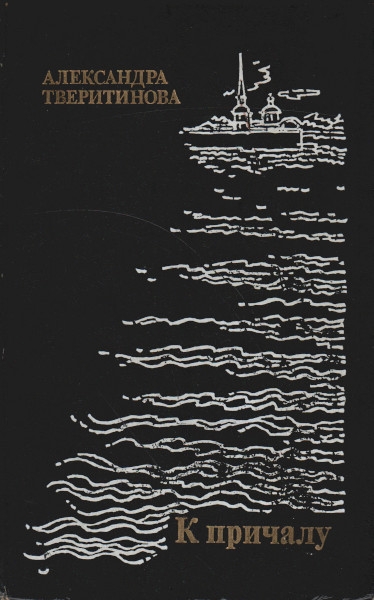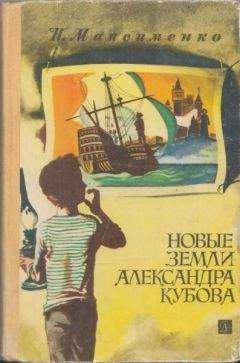в инее. В глубине справа темнел коттэдж Одинцовых.
Как тогда в Сокольниках, я отворила калитку и, как тогда в Сокольниках, калитка скрипнула, и сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал.
Я остановилась: к крыльцу коттэджа Одинцовых вела расчищенная в снегу дорожка, как тогда в Сокольниках...
— Что же вы, Марина Николаевна, проходите.
Я оглянулась. Позади меня стояла Юлия Валериановна в накинутом на голову теплом платке и смотрела на меня серыми внимательными глазами. И на ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток.
— Запахните шубку, простудитесь, — сказала она. — Я вышла к сторожу, заодно и вас встретить.
На крылечке мы постучали ногами, чтобы сбить снег с ботинок, и вошли в дом.
В столовой стоял беккеровский рояль. В бронзовых подсвечниках зажжены электрические лампочки, ноты раскрыты. Я взглянула: романс «Я помню чудное мгновенье», и на рояле увертюра к «Пиковой даме». Перед диваном накрыт к праздничному обеду круглый стол. Ждали гостей.
Много недель спустя я рассказала Юлии Валериановне о том вечере в Сокольниках, о бревенчатом домике, расчищенной от снега дорожке, заледеневшей веранде...
Юлия Валериановна грустно улыбнулась, протянула мне обе руки и сказала:
— Приходите к нам, как домой.
Побрела на «свою» «Площадь — Россию». Опять и опять. Мои «сбегания» на «Площадь — Россию» стали необходимы мне, необходимы как пить, есть, спать.
Я прихожу сюда просто так, просто сидеть, слушать тишину и думать. Иногда думаю вместе с Вадимом. Можно даже говорить с ним. Я рассказываю ему про мое сегодня, вспоминаем с ним наше вчера. Я рассказываю ему про «саратовскую вакуированную Таню», про то, как она воюет с санитаркой из поликлиники: «...опять ты? На, читай, написано тебе по-русски: в пять закрываемся, а ты? Вот бы сама и села и сама и посевала. Мы тоже люди...»
У нас новый министр — женщина. Женщина — министр — говорю Вадиму. И хорошо бы ее показать Жано, тем более что очень уж хороша — и посмотреть бы при этом на торжествующую его физиономию.
А в рубрике «Новости из-за рубежа» все громче разговор о бактериологической войне. Угроза и опять угроза...
Работаю... Комплексная работа по изучению действия антибиотика на палочку Леффлера закончена. Новый этот метод лечения дифтерии, возможно, будет внедрен в практику. Работа будет опубликована в Ученых записках. Среди участников ее назовут и мое имя...
Вчера меня вызвал Абдулаев и сказал: «Есть указания... без диплома...» Сказал, что в больничной лаборатории, где я работаю по совместительству, менее строго... Он долго совал сигарету в мундштучок и смотрел куда-то вбок.
Старики Башиловы встревожены. Варвара Ивановна говорит: «Надо поступать учиться в институт. Без диплома — никуда!»
И Ольга Федоровна: «В Институт иностранных языков. Заочно. Вам это несложно. У нас многие так учатся. Будет диплом, и все пойдет хорошо...» И старик: «Ликвидируют скидки на войну... Страна, слава богу, начинает входить в свои берега...»
Да, но для того чтобы поступить в высшее учебное заведение, у меня потребуют аттестат зрелости...
Салтыков говорит, вместо аттестата достаточно предъявить три свидетельские справки — пока еще действует «скидка на войну». Ну так где мне их искать, моих свидетелей. Тася, вот разве. Даст, конечно, справку, если написать. А еще?..
Работаю в лаборатории хирургического отделения городской больницы.
Написала Елене Алексеевне. Может быть, Тася сможет мне прислать справку. Не к кому мне больше...
Весна, но идет снег. Неожиданно завьюжило. Снег из ясного голубого неба.
Прибежала Таня: «Возвертаемся с мамою в Саратов. Вот и домой...» Прощались с девчонкой.
За окном густой и тихий снегопад. Еще чуть, и все будет белым-бело. Смотрю на снег, и становится по-зимнему зябко и одиноко. Грустную жизнь ведешь ты, Марина Кострова, нет тебе ни молодости, ни любви. А так ведь хочется, так горестно хочется молодости и любви. Моей. Вадимовой.
Закрыла глаза и вспомнила лицо Вадима таким, каким оно было в то утро на бульваре Сен-Жермен, в минуту нашего прощания.
Я помнила разные выражения его лица: недовольное, печальное, озабоченное, умиленное, но лицо его в минуту прощания остается для меня самым любимым...
Мир охвачен весной. В форточку видна свисающая с конторской крыши тающая золотая сосулька. Глядя на нее, вспоминаю детство.
Сегодня впервые ко мне заглянуло солнце, пошарило лучами по серому, пятнистому углу потолка, там, где осенью протекала крыша, сморщилось, должно быть, брезгливо и поплыло на левитановский пейзаж, задержалось на портрете Льва Толстого и ушло. Но завтра, я знаю, оно придет вновь. И послезавтра придет...
А Елена Алексеевна молчит.
1-е Мая. Праздник. На улице промозглая сырость. А люди улыбаются, веселятся, поют, пляшут на остановках. Наперекор непогоде. После демонстрации, по уже сложившейся традиции, отправилась к Одинцовым.
Как всегда, у Одинцовых много гостей и, как всегда, все больше москвичи да питерцы, и все ученые. Чувствую себя с ними скованно до тех только пор, пока разговор не заходит о Франции — о Франции военных лет, — тогда я окунаюсь в мое недавнее, не успевшее еще войти в историю.
В комнату сунулась Луша и шепнула Юлии Валериановне, что пришел какой-то парнишка, говорит, ему Сергей Сергеевич велел...
— Баритональный бас. Ты послушай его, — оживился Сергей Сергеевич, — послушай. В консерваторию его надо... Непременно в консерваторию.
И в комнату вошел парнишка лет восемнадцати, с соломенной шевелюрой и белыми ресницами. Он остановился на пороге, взглянул на нас и дальше не пошел. Глаза в пол, хохолок бесцветных волос потерянно торчит на макушке.
Юлия Валериановна садится к роялю, просит подойти поближе. Берет аккорд. Другой. Парень молчит. Юлия Валериановна смотрит на юношу: «Ну что ж, спойте. Спойте что-нибудь. Не надо стесняться». Паренек молчит. Щеки пятнами.
— Не надо пианино, — поднял парнишка глаза на Юлию Валериановну, кашлянул раз-другой, выпрямился, тряхнул головой, дрогнул соломенный хохолок на макушке...
Он запел. «Вниз по Волге реке...»
...По спине у меня пробежал холодок.
Академик Алумбаев, ученик профессора Одинцова, явился, как всегда, — по первому зову Сергея Сергеевнча. Стоя в дверях, послушал, взглянул на Сергея Сергеевича, сказал: «В консерваторию. Попытаемся».
Меня приняли в институт иностранных языков. Французский теперь будет моей специальностью. Экзамены сдаю экстерном. Буду